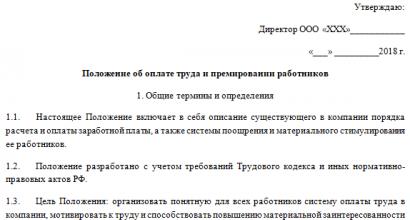Преступление и наказание 5 глава кратко.
I
«Неужели это продолжение сна?» подумалось еще раз Раскольникову. Осторожно и недоверчиво всматривался он в неожиданного гостя. Свидригайлов? Какой вздор! Быть не может! проговорил он наконец вслух, в недоумении. Казалось, гость совсем не удивился этому восклицанию. Вследствие двух причин к вам зашел: во-первых, лично познакомиться пожелал, так как давно уж наслышан с весьма любопытной и выгодной для вас точки; а во-вторых, мечтаю, что не уклонитесь, может быть, мне помочь в одном предприятии, прямо касающемся интереса сестрицы вашей, Авдотьи Романовны. Одного-то меня, без рекомендации, она, может, и на двор к себе теперь не пустит, вследствие предубеждения, ну, а с вашей помощью я, напротив, рассчитываю... Плохо рассчитываете, перебил Раскольников. Они ведь только вчера прибыли, позвольте спросить? Раскольников не ответил. Вчера, я знаю. Я ведь сам прибыл всего только третьего дня. Ну-с, вот что я скажу вам на этот счет, Родион Романович; оправдывать себя считаю излишним, но позвольте же и мне заявить: что ж тут, во всем этом, в самом деле, такого особенно преступного с моей стороны, то есть без предрассудков-то, а здраво судя? Раскольников продолжал молча его рассматривать. То, что в своем доме преследовал беззащитную девицу и «оскорблял ее своими гнусными предложениями», так ли-с? (Сам вперед забегаю!) Да ведь предположите только, что и я человек есмь, et nihil humanum... одним словом, что и я способен прельститься и полюбить (что уж, конечно, не по нашему велению творится), тогда всё самым естественным образом объясняется. Тут весь вопрос: изверг ли я или сам жертва? Ну а как жертва? Ведь предлагая моему предмету бежать со мною в Америку или в Швейцарию, я, может, самые почтительнейшие чувства при сем питал, да еще думал обоюдное счастие устроить!.. Разум-то ведь страсти служит; я, пожалуй, себя еще больше губил, помилуйте!.. Да совсем не в том дело, с отвращением перебил Раскольников, просто-запросто вы противны, правы ль вы или не правы, ну вот с вами и не хотят знаться, и гонят вас, и ступайте!.. Свидригайлов вдруг расхохотался. Однако ж вы... однако ж вас не собьешь! проговорил он, смеясь откровеннейшим образом, я было думал схитрить, да нет, вы как раз на самую настоящую точку стали! Да вы и в эту минуту хитрить продолжаете. Так что ж? Так что ж? повторял Свидригайлов, смеясь нараспашку, ведь это bonne guerre, что называется, и самая позволительная хитрость!.. Но все-таки вы меня перебили; так или этак, подтверждаю опять: никаких неприятностей не было бы, если бы не случай в саду. Марфа Петровна... Марфу-то Петровну вы тоже, говорят, уходили? грубо перебил Раскольников. А вы и об этом слышали? Как, впрочем, не слыхать... Ну, насчет этого вашего вопроса, право, не знаю, как вам сказать, хотя моя собственная совесть в высшей степени спокойна на этот счет. То есть не подумайте, чтоб я опасался чего-нибудь там этакого: всё это произведено было в совершенном порядке и в полной точности: медицинское следствие обнаружило апоплексию, происшедшую от купания сейчас после плотного обеда, с выпитою чуть не бутылкой вина, да и ничего другого и обнаружить оно не могло... Нет-с, я вот что про себя думал некоторое время, вот особенно в дороге, в вагоне сидя: не способствовал ли я всему этому... несчастью, как-нибудь там раздражением нравственно или чем-нибудь в этом роде? Но заключил, что и этого положительно быть не могло. Раскольников засмеялся. Охота же так беспокоиться! Да вы чему смеетесь? Вы сообразите: я ударил всего только два раза хлыстиком, даже знаков не оказалось... Не считайте меня, пожалуйста, циником; я ведь в точности знаю, как это гнусно с моей стороны, ну и так далее; но ведь я тоже наверно знаю, что Марфа Петровна, пожалуй что, и рада была этому моему, так сказать, увлечению. История по поводу вашей сестрицы истощилась до ижицы. Марфа Петровна уже третий день принуждена была дома сидеть; не с чем в городишко показаться, да и надоела она там всем с своим этим письмом (про чтение письма-то слышали?). И вдруг эти два хлыста как с неба падают! Первым делом карету велела закладывать!.. Я уж о том и не говорю, что у женщин случаи такие есть, когда очень и очень приятно быть оскорбленною, несмотря на всё видимое негодование. Они у всех есть, эти случаи-то; человек вообще очень и очень даже любит быть оскорбленным, замечали вы это? Но у женщин это в особенности. Даже можно сказать, что тем только и пробавляются. Одно время Раскольников думал было встать и уйти и тем покончить свидание. Но некоторое любопытство и даже как бы расчет удержали его на мгновение. Вы любите драться? спросил он рассеянно. Нет, не весьма, спокойно отвечал Свидригайлов. А с Марфой Петровной почти никогда не дрались. Мы весьма согласно жили, и она мной всегда довольна оставалась. Хлыст я употребил, во все наши семь лет, всего только два раза (если не считать еще одного третьего случая, весьма, впрочем, двусмысленного): в первый раз два месяца спустя после нашего брака, тотчас же по приезде в деревню, и вот теперешний последний случай. А вы уж думали, я такой изверг, ретроград, крепостник? хе-хе... А кстати: не припомните ли вы, Родион Романович, как несколько лет тому назад, еще во времена благодетельной гласности, осрамили у нас всенародно и вселитературно одного дворянина забыл фамилию! вот еще немку-то отхлестал в вагоне, помните? Тогда еще, в тот же самый год, кажется, и «Безобразный поступок Века» случился (ну, «Египетские-то ночи», чтение-то публичное, помните? Черные-то глаза! О, где ты золотое время нашей юности!). Ну-с, так вот мое мнение: господину, отхлеставшему немку, глубоко не сочувствую, потому что и в самом деле оно... что же сочувствовать! Но при сем не могу не заявить, что случаются иногда такие подстрекательные «немки», что, мне кажется, нет ни единого прогрессиста, который бы совершенно мог за себя поручиться. С этой точки никто не посмотрел тогда на предмет, а между тем эта точка-то и есть настоящая гуманная, право-с так! Проговорив это, Свидригайлов вдруг опять рассмеялся. Раскольникову явно было, что это на что-то твердо решившийся человек и себе на уме. Вы, должно быть, несколько дней сряду ни с кем не говорили? спросил он. Почти так. А что: верно, дивитесь, что я такой складной человек? Нет, я тому дивлюсь, что уж слишком вы складной человек. Оттого что грубостию ваших вопросов не обижался? Так, что ли? Да... чего ж обижаться? Как спрашивали, так и отвечал, прибавил он с удивительным выражением простодушия. Ведь я особенно-то ничем почти не интересуюсь, ей-богу, продолжал он как-то вдумчиво. Особенно теперь, ничем-таки не занят... Впрочем, вам позволительно думать, что я из видов заискиваю, тем более что имею дело до вашей сестрицы, сам объявил. Но я вам откровенно скажу: очень скучно! Особенно эти три дня, так что я вам даже обрадовался... Не рассердитесь, Родион Романович, но вы мне сами почему-то кажетесь ужасно как странным. Как хотите, а что-то в вас есть; и именно теперь, то есть не собственно в эту минуту, а вообще теперь... Ну, ну, не буду, не буду, не хмурьтесь! Я ведь не такой медведь, как вы думаете. Раскольников мрачно посмотрел на него. Вы даже, может быть, и совсем не медведь, сказал он. Мне даже кажется, что вы очень хорошего общества или, по крайней мере, умеете при случае быть и порядочным человеком. Да ведь я ничьим мнением особенно не интересуюсь, сухо и как бы даже с оттенком высокомерия ответил Свидригайлов, а потому отчего же и не побывать пошляком, когда это платье в нашем климате так удобно носить и... и особенно если к тому и натуральную склонность имеешь, прибавил он, опять засмеявшись. Я слышал, однако, что у вас здесь много знакомых. Вы ведь то, что называется «не без связей». Зачем же вам я-то в таком случае, как не для целей? Это вы правду сказали, что у меня есть знакомые, подхватил Свидригайлов, не отвечая на главный пункт, я уж встречал; третий ведь день слоняюсь; и сам узнаю, и меня, кажется, узнают. Оно конечно, одет прилично и числюсь человеком не бедным; нас ведь и крестьянская реформа обошла: леса да луга заливные, доход-то и не теряется; но... не пойду я туда; и прежде надоело: хожу третий день и не признаюсь никому... А тут еще город! То есть как это он сочинился у нас, скажите пожалуйста! Город канцеляристов и всевозможных семинаристов! Право, я многого здесь прежде не примечал, лет восемь-то назад, когда тут валандался... На одну только анатомию теперь и надеюсь, ей-богу! На какую анатомию? А насчет этих клубов, Дюссотов, пуантов этих ваших или, пожалуй, вот еще прогрессу ну, это пусть будет без нас, продолжал он, не заметив опять вопроса. Да и охота шулером-то быть? А вы были и шулером? Как же без этого? Целая компания нас была, наиприличнейшая, лет восемь назад; проводили время; и всё, знаете, люди с манерами, поэты были, капиталисты были. Да и вообще у нас, в русском обществе, самые лучшие манеры у тех, которые биты бывали, заметили вы это? Это ведь я в деревне теперь опустился. А все-таки посадили было меня тогда в тюрьму за долги, гречонка один нежинский. Тут и подвернулась Марфа Петровна, поторговалась и выкупила меня за тридцать тысяч сребреников. (Всего-то я семьдесят тысяч был должен). Сочетались мы с ней законным браком, и увезла она меня тотчас же к себе в деревню, как какое сокровище. Она ведь старше меня пятью годами. Очень любила. Семь лет из деревни не выезжал. И заметьте, всю-то жизнь документ против меня, на чужое имя, в этих тридцати тысячах держала, так что задумай я в чем-нибудь взбунтоваться, тотчас же в капкан! И сделала бы! У женщин ведь это всё вместе уживается. А если бы не документ, дали бы тягу? Не знаю, как вам сказать. Меня этот документ почти не стеснял. Никуда мне не хотелось, а за границу Марфа Петровна и сама меня раза два приглашала, видя, что я скучал. Да что! За границу я прежде ездил, и всегда мне тошно бывало. Не то чтоб, а вот заря занимается, залив Неаполитанский, море, смотришь, и как-то грустно. Всего противнее, что ведь действительно о чем-то грустишь! Нет, на родине лучше: тут, по крайней мере, во всем других винишь, а себя оправдываешь. Я бы, может, теперь в экспедицию на Северный полюс поехал, потому j"ai le vin mauvais, и пить мне противно, а кроме вина ничего больше не остается. Пробовал. А что, говорят, Берг в воскресенье в Юсуповом саду на огромном шаре полетит, попутчиков за известную плату приглашает, правда? Что ж, вы полетели бы? Я? Нет... так... пробормотал Свидригайлов, действительно как бы задумавшись. «Да что он, в самом деле, что ли?» подумал Раскольников. Нет, документ меня не стеснял, продолжал Свидригайлов раздумчиво, это я сам из деревни не выезжал. Да и уж с год будет, как Марфа Петровна в именины мои мне и документ этот возвратила, да еще вдобавок примечательную сумму подарила. У ней ведь был капитал. «Видите, как я вам доверяю, Аркадий Иванович», право, так и выразилась. Вы не верите, что так выразилась? А знаете: ведь я хозяином порядочным в деревне стал; меня в околотке знают. Книги тоже выписывал. Марфа Петровна сперва одобряла, а потом всё боялась, что я заучусь. Вы по Марфе Петровне, кажется, очень скучаете? Я? Может быть. Право, может быть. А кстати, верите вы в привидения? В какие привидения? В обыкновенные привидения, в какие! А вы верите? Да, пожалуй, и нет, pour vous plaire... То есть не то что нет... Являются, что ли? Свидригайлов как-то странно посмотрел на него. Марфа Петровна посещать изволит, проговорил он, скривя рот в какую-то странную улыбку. Как это посещать изволит? Да уж три раза приходила. Впервой я ее увидел в самый день похорон, час спустя после кладбища. Это было накануне моего отъезда сюда. Второй раз третьего дня, в дороге, на рассвете, на станции Малой Вишере; а в третий раз, два часа тому назад, на квартире, где я стою, в комнате; я был один. Наяву? Совершенно. Все три раза наяву. Придет, поговорит с минуту и уйдет в дверь; всегда в дверь. Даже как будто слышно. Отчего я так и думал, что с вами непременно что-нибудь в этом роде случается! проговорил вдруг Раскольников и в ту же минуту удивился, что это сказал. Он был в сильном волнении. Во-от? Вы это подумали? с удивлением спросил Свидригайлов, да неужели? Ну, не сказал ли я, что между нами есть какая-то точка общая, а? Никогда вы этого не говорили! резко и с азартом ответил Раскольников. Не говорил? Нет! Мне показалось, что говорил. Давеча, как я вошел и увидел, что вы с закрытыми глазами лежите, а сами делаете вид, тут же и сказал себе: «Это тот самый и есть!» Что это такое: тот самый? Про что вы это? вскричал Раскольников. Про что? А право, не знаю про что... чистосердечно, и как-то сам запутавшись, пробормотал Свидригайлов. С минуту помолчали. Оба глядели друг на друга во все глаза. Всё это вздор! с досадой вскрикнул Раскольников. Что ж она вам говорит, когда приходит? Она-то? Вообразите себе, о самых ничтожных пустяках, и подивитесь человеку: меня ведь это-то и сердит. В первый раз вошла (я, знаете, устал: похоронная служба, со святыми упокой, потом лития, закуска, наконец-то в кабинете один остался, закурил сигару, задумался), вошла в дверь: «А вы, говорит, Аркадий Иванович, сегодня за хлопотами и забыли в столовой часы завести». А часы эти я, действительно, все семь лет, каждую неделю сам заводил, а забуду так всегда, бывало, напомнит. На другой день я уж еду сюда. Вошел, на рассвете, на станцию, за ночь вздремнул, изломан, глаза заспаны, взял кофею; смотрю Марфа Петровна вдруг садится подле меня, в руках колода карт: «Не загадать ли вам, Аркадий Иванович, на дорогу-то?» А она мастерица гадать была. Ну, и не прощу же себе, что не загадал! Убежал, испугавшись, а тут, правда, и колокольчик. Сижу сегодня после дряннейшего обеда из кухмистерской, с тяжелым желудком, сижу, курю вдруг опять Марфа Петровна, входит вся разодетая, в новом шелковом зеленом платье, с длиннейшим хвостом: «Здравствуйте, Аркадий Иванович! Как на ваш вкус мое платье? Аниська так не сошьет». (Аниська это мастерица у нас в деревне, из прежних крепостных, в ученье в Москве была хорошенькая девчонка). Стоит, вертится передо мной. Я осмотрел платье, потом внимательно ей в лицо посмотрел: «Охота вам, говорю, Марфа Петровна, из таких пустяков ко мне ходить, беспокоиться». «Ах бог мой, батюшка, уж и потревожить тебя нельзя!» Я ей говорю, чтобы подразнить ее: «Я, Марфа Петровна, жениться хочу». «От вас это станется, Аркадий Иванович; не много чести вам, что вы, не успев жену схоронить, тотчас и жениться поехали. И хоть бы выбрали-то хорошо, а то ведь, я знаю, ни ей, ни себе, только добрых людей насмешите». Взяла да и вышла, и хвостом точно как будто шумит. Экой ведь вздор, а? Да вы, впрочем, может быть, всё лжете? отозвался Раскольников. Я редко лгу, отвечал Свидригайлов, задумчиво и как бы совсем не заметив грубости вопроса. А прежде, до этого, вы никогда привидений не видывали? Н... нет, видел, один только раз в жизни, шесть лет тому. Филька, человек дворовый, у меня был; только что его похоронили, я крикнул, забывшись: «Филька, трубку!» вошел, и прямо к горке, где стоят у меня трубки. Я сижу, думаю: «Это он мне отомстить», потому что перед самою смертью мы крепко поссорились. «Как ты смеешь, говорю, с продранным локтем ко мне входить, вон, негодяй!» Повернулся, вышел и больше не приходил. Я Марфе Петровне тогда не сказал. Хотел было панихиду по нем отслужить, да посовестился. Сходите к доктору. Это-то я и без вас понимаю, что нездоров, хотя, право, не знаю чем; по-моему, я, наверно, здоровее вас впятеро. Я вас не про то спросил, верите вы или нет, что привидения являются? Я вас спросил: верите ли вы, что есть привидения? Нет, ни за что не поверю! с какою-то даже злобой вскричал Раскольников. Ведь обыкновенно как говорят? бормотал Свидригайлов, как бы про себя, смотря в сторону и наклонив несколько голову. Они говорят: «Ты болен, стало быть, то, что тебе представляется, есть один только несуществующий бред». А ведь тут нет строгой логики. Я согласен, что привидения являются только больным; но ведь это только доказывает, что привидения могут являться не иначе как больным, а не то, что их нет, самих по себе. Конечно, нет! раздражительно настаивал Раскольников. Нет? Вы так думаете? продолжал Свидригайлов, медленно посмотрев на него. Ну а что, если так рассудить (вот помогите-ка): «Привидения это, так сказать, клочки и отрывки других миров, их начало. Здоровому человеку, разумеется, их незачем видеть, потому что здоровый человек есть наиболее земной человек, а стало быть, должен жить одною здешнею жизнью, для полноты и для порядка. Ну а чуть заболел, чуть нарушился нормальный земной порядок в организме, тотчас и начинает сказываться возможность другого мира, и чем больше болен, тем и соприкосновений с другим миром больше, так что когда умрет совсем человек, то прямо и перейдет в другой мир». Я об этом давно рассуждал. Если в будущую жизнь верите, то и этому рассуждению можно поверить. Я не верю в будущую жизнь, сказал Раскольников. Свидригайлов сидел в задумчивости. А что, если там одни пауки или что-нибудь в этом роде, сказал он вдруг. «Это помешанный», подумал Раскольников. Нам вот всё представляется вечность как идея, которую понять нельзя, что-то огромное, огромное! Да почему же непременно огромное? И вдруг, вместо всего этого, представьте себе, будет там одна комнатка, эдак вроде деревенской бани, закоптелая, а по всем углам пауки, и вот и вся вечность. Мне, знаете, в этом роде иногда мерещится. И неужели, неужели вам ничего не представляется утешительнее и справедливее этого! с болезненным чувством вскрикнул Раскольников. Справедливее? А почем знать, может быть, это и есть справедливое, и знаете, я бы так непременно нарочно сделал! ответил Свидригайлов, неопределенно улыбаясь. Каким-то холодом охватило вдруг Раскольникова, при этом безобразном ответе. Свидригайлов поднял голову, пристально посмотрел на него и вдруг расхохотался. Нет, вы вот что сообразите, закричал он, назад тому полчаса мы друг друга еще и не видывали, считаемся врагами, между нами нерешенное дело есть; мы дело-то бросили и эвона в какую литературу заехали! Ну, не правду я сказал, что мы одного поля ягоды? Сделайте же одолжение, раздражительно продолжал Раскольников, позвольте вас просить поскорее объясниться и сообщить мне, почему вы удостоили меня чести вашего посещения... и... и... я тороплюсь, мне некогда, я хочу со двора идти... Извольте, извольте. Ваша сестрица, Авдотья Романовна, за господина Лужина выходит, Петра Петровича? Нельзя ли как-нибудь обойти всякий вопрос о моей сестре и не упоминать ее имени? Я даже не понимаю, как вы смеете при мне выговаривать ее имя, если только вы действительно Свидригайлов? Да ведь я же об ней и пришел говорить, как же не упоминать-то? Хорошо; говорите, но скорее! Я уверен, что вы об этом господине Лужине, моем по жене родственнике, уже составили ваше мнение, если его хоть полчаса видели или хоть что-нибудь об нем верно и точно слышали. Авдотье Романовне он не пара. По-моему, Авдотья Романовна в этом деле жертвует собою весьма великодушно и нерасчетливо для... для своего семейства. Мне показалось, вследствие всего, что я об вас слышал, что вы с своей стороны, очень бы довольны были, если б этот брак мог расстроиться без нарушения интересов. Теперь же, узнав вас лично, я даже в этом уверен. С вашей стороны всё это очень наивно; извините меня, я хотел сказать: нахально, сказал Раскольников. То есть вы этим выражаете, что я хлопочу в свой карман. Не беспокойтесь, Родион Романович, если б я хлопотал в свою выгоду, то не стал бы так прямо высказываться, не дурак же ведь я совсем. На этот счет открою вам одну психологическую странность. Давеча я, оправдывая свою любовь к Авдотье Романовне, говорил, что был сам жертвой. Ну, так знайте же, что никакой я теперь любви не ощущаю, н-никакой, так что мне самому даже странно это, потому что я ведь действительно нечто ощущал... От праздности и разврата, перебил Раскольников. Действительно, я человек развратный и праздный. А впрочем, ваша сестрица имеет столько преимуществ, что не мог же и я не поддаться некоторому впечатлению. Но всё это вздор, как теперь и сам вижу. Давно ли увидели? Замечать стал еще прежде, окончательно же убедился третьего дня, почти в самую минуту приезда в Петербург. Впрочем, еще в Москве воображал, что еду добиваться руки Авдотьи Романовны и соперничать с господином Лужиным. Извините, что вас перерву, сделайте одолжение: нельзя ли сократить и перейти прямо к цели вашего посещения. Я тороплюсь, мне надо идти со двора... С величайшим удовольствием. Прибыв сюда и решившись теперь предпринять некоторый... вояж, я пожелал сделать необходимые предварительные распоряжения. Дети мои остались у тетки; они богаты, а я им лично не надобен. Да и какой я отец! Себе я взял только то, что подарила мне год назад Марфа Петровна. С меня достаточно. Извините, сейчас перехожу к самому делу. Перед вояжем, который, может быть, и сбудется, я хочу и с господином Лужиным покончить. Не то чтоб уж я его очень терпеть не мог, но через него, однако, и вышла эта ссора моя с Марфой Петровной, когда я узнал, что она эту свадьбу состряпала. Я желаю теперь повидаться с Авдотьей Романовной, через ваше посредство, и, пожалуй, в вашем же присутствии объяснить ей, во-первых, что от господина Лужина не только не будет ей ни малейшей выгоды, но даже наверно будет явный ущерб. Затем, испросив у ней извинения в недавних этих всех неприятностях, я попросил бы позволения предложить ей десять тысяч рублей и таким образом облегчить разрыв с господином Лужиным, разрыв, от которого, я уверен, она и сама была бы не прочь, явилась бы только возможность. Но вы действительно, действительно сумасшедший! вскричал Раскольников, не столько даже рассерженный, сколько удивленный. Как смеете вы так говорить! Я так и знал, что вы закричите; но, во-первых, я хоть и небогат, но эти десять тысяч рублей у меня свободны, то есть совершенно, совершенно мне не надобны. Не примет Авдотья Романовна, так я, пожалуй, еще глупее их употреблю. Это раз. Второе: совесть моя совершенно покойна; я без всяких расчетов предлагаю. Верьте не верьте, а впоследствии узнаете и вы, и Авдотья Романовна. Всё в том, что я действительно принес несколько хлопот и неприятностей многоуважаемой вашей сестрице; стало быть, чувствуя искреннее раскаяние, сердечно желаю, не откупиться, не заплатить за неприятности, а просто-запросто сделать для нее что-нибудь выгодное, на том основании, что не привилегию же в самом деле взял я делать одно только злое. Если бы в моем предложении была хотя миллионная доля расчета, то не стал бы я предлагать так прямо; да и не стал бы я предлагать всего только десять тысяч, тогда как всего пять недель назад предлагал ей больше. Кроме того, я, может быть, весьма и весьма скоро женюсь на одной девице, а следственно, все подозрения в каких-нибудь покушениях против Авдотьи Романовны тем самым должны уничтожиться. В заключение скажу, что, выходя за господина Лужина, Авдотья Романовна те же самые деньги берет, только с другой стороны... Да вы не сердитесь, Родион Романович, рассудите спокойно и хладнокровно. Говоря это, Свидригайлов был сам чрезвычайно хладнокровен и спокоен. Прошу вас кончить, сказал Раскольников. Во всяком случае, это непростительно дерзко. Нимало. После этого человек человеку на сем свете может делать одно только зло и, напротив, не имеет права сделать ни крошки добра, из-за пустых принятых формальностей. Это нелепо. Ведь если б я, например, помер и оставил бы эту сумму сестрице вашей по духовному завещанию, неужели б она и тогда принять отказалась? Весьма может быть. Ну уж это нет-с. А впрочем, нет, так и нет, так пусть и будет. А только десять тысяч прекрасная штука, при случае. Во всяком случае, попрошу передать сказанное Авдотье Романовне. Нет, не передам. В таком случае, Родион Романович, я сам принужден буду добиваться свидания личного, а стало быть, беспокоить. А если я передам, вы не будете добиваться свидания личного? Не знаю, право, как вам сказать. Видеться один раз я бы очень желал. Не надейтесь. Жаль. Впрочем, вы меня не знаете. Вот, может, сойдемся поближе. Вы думаете, что мы сойдемся поближе? А почему ж бы и нет? улыбнувшись сказал Свидригайлов, встал и взял шляпу, я ведь не то чтобы так уж очень желал вас беспокоить и, идя сюда, даже не очень рассчитывал, хотя, впрочем, физиономия ваша еще давеча утром меня поразила... Где вы меня давеча утром видели? с беспокойством спросил Раскольников. Случайно-с... Мне всё кажется, что в вас есть что-то к моему подходящее... Да не беспокойтесь, я не надоедлив; и с шулерами уживался, и князю Свирбею, моему дальнему родственнику и вельможе, не надоел, и об Рафаэлевой Мадонне госпоже Прилуковой в альбом сумел написать, и с Марфой Петровной семь лет безвыездно проживал, и в доме Вяземского на Сенной в старину ночевывал, и на шаре с Бергом, может быть, полечу. Ну, хорошо-с. Позвольте спросить, вы скоро в путешествие отправитесь? В какое путешествие? Ну да в «вояж»-то этот... Вы ведь сами сказали. В вояж? Ах, да!.. в самом деле, я вам говорил про вояж... Ну, это вопрос обширный... А если б знали вы, однако ж, об чем спрашиваете! прибавил он и вдруг громко и коротко рассмеялся. Я, может быть, вместо вояжа-то женюсь; мне невесту сватают. Здесь? Да. Когда это вы успели? Но с Авдотьей Романовной однажды повидаться весьма желаю. Серьезно прошу. Ну, до свидания... ах, да! Ведь вот что забыл! Передайте, Родион Романович, вашей сестрице, что в завещании Марфы Петровны она упомянута в трех тысячах. Это положительно верно. Марфа Петровна распорядилась за неделю до смерти, и при мне дело было. Недели через две-три Авдотья Романовна может и деньги получить. Вы правду говорите? Правду. Передайте. Ну-с, ваш слуга. Я ведь от вас очень недалеко стою. Выходя, Свидригайлов столкнулся в дверях с Разумихиным.Раскольников был деятельным и бодрым адвокатом Сони против Лужина, несмотря на то что сам носил столько собственного ужаса и страдания в душе. Но, выстрадав столько утром, он точно рад был случаю переменить свои впечатления, становившиеся невыносимыми, не говоря уже о том, насколько личного и сердечного заключалось в стремлении его заступиться за Соню. Кроме того, у него было в виду и страшно тревожило его, особенно минутами, предстоящее свидание с Соней: он должен был объявить ей, кто убил Лизавету, и предчувствовал себе страшное мучение, и точно отмахивался от него руками. И потому, когда он воскликнул, выходя от Катерины Ивановны: «Ну, что вы скажете теперь, Софья Семеновна?», то, очевидно, находился еще в каком-то внешне возбужденном состоянии бодрости, вызова и недавней победы над Лужиным. Но странно случилось с ним. Когда он дошел до квартиры Капернаумова, то почувствовал в себе внезапное обессиление и страх. В раздумье остановился он перед дверью с странным вопросом: «Надо ли сказывать, кто убил Лизавету?» Вопрос был странный, потому что он вдруг, в то же время, почувствовал, что не только нельзя не сказать, но даже и отдалить эту минуту, хотя на время, невозможно. Он еще не знал, почему невозможно; он только почувствовал это, и это мучительное сознание своего бессилия перед необходимостию почти придавило его. Чтоб уже не рассуждать и не мучиться, он быстро отворил дверь и с порога посмотрел на Соню. Она сидела, облокотясь на столик и закрыв лицо руками, но, увидев Раскольникова, поскорей встала и пошла к нему навстречу, точно ждала его.
Что бы со мной без вас-то было! - быстро проговорила она, сойдясь с ним среди комнаты. Очевидно, ей только это и хотелось поскорей сказать ему. Затем и ждала.
Раскольников прошел к столу и сел на стул, с которого она только что встала. Она стала перед ним в двух шагах, точь-в-точь как вчера.
Что, Соня? - сказал он и вдруг почувствовал, что голос его дрожит, - ведь все дело-то упиралось на «общественное положение и сопричастные тому привычки». Поняли вы давеча это?
Страдание выразилось в лице ее.
Только не говорите со мной как вчера! - прервала она его. - Пожалуйста, уж не начинайте. И так мучений довольно…
Она поскорей улыбнулась, испугавшись, что, может быть, ему не понравится упрек.
Я сглупа-то оттудова ушла. Что там теперь? Сейчас было хотела идти, да все думала, что вот… вы зайдете.
Он рассказал ей, что Амалия Ивановна гонит их с квартиры и что Катерина Ивановна побежала куда-то «правды искать».
Ах, боже мой! - вскинулась Соня, - пойдемте поскорее…
И она схватила свою мантильку.
Вечно одно и то же! - вскричал раздражительно Раскольников. - У вас только и в мыслях, что они! Побудьте со мной.
А… Катерина Ивановна?
А Катерина Ивановна, уж, конечно, вас не минует, зайдет к вам сама, коли уж выбежала из дому, - брюзгливо прибавил он. - Коли вас не застанет, ведь вы же останетесь виноваты…
Соня в мучительной нерешимости присела на стул. Раскольников молчал, глядя в землю и что-то обдумывая.
Положим, Лужин теперь не захотел, - начал он, не взглядывая на Соню. - Ну а если б он захотел или какнибудь в расчеты входило, ведь он бы упрятал вас в острог-то, не случись тут меня да Лебезятникова! А?
А ведь я и действительно мог не случиться! А Лебезятников, тот уже совсем случайно подвернулся.
Соня молчала.
Ну а если б в острог, что тогда? Помните, что я вчера говорил?
Она опять не ответила. Тот переждал.
А я думал, вы опять закричите: «Ах, не говорите, перестаньте!» - засмеялся Раскольников, но как-то с натугой. - Что ж, опять молчание? - переспросил он через минуту. - Ведь надо же о чем-нибудь разговаривать? Вот мне именно интересно было бы узнать, как бы вы разрешили теперь один «вопрос», - как говорит Лебезятников. (Он как будто начинал путаться.) Нет, в самом деле, я серьезно. Представьте себе, Соня, что вы знали бы все намерения Лужина заранее, знала бы (то есть наверно), что через них погибла бы совсем Катерина Ивановна, да и дети; вы тоже, впридачу (так как вы себя ни за что считаете, так впридачу). Полечка также… потому ей та же дорога. Ну-с; так вот: если бы вдруг все это теперь на ваше решение отдали: тому или тем жить на свете, то есть Лужину ли жить и делать мерзости, или умирать Катерине Ивановне? То как бы вы решили: кому из них умереть? Я вас спрашиваю.
Соня с беспокойством на него посмотрела: ей что-то особенное послышалось в этой нетвердой и к чему-то издалека подходящей речи.
Я уже предчувствовала, что вы что-нибудь такое спросите, - сказала она, пытливо смотря на него.
Хорошо, пусть; но, однако, как же бы решить-то?
Зачем вы спрашиваете, чему быть невозможно? - с отвращением сказала Соня.
Стало быть, лучше Лужину жить и делать мерзости! Вы и этого решить не осмелились?
Да ведь я божьего промысла знать не могу… И к чему вы спрашиваете, чего нельзя спрашивать? К чему такие пустые вопросы? Как может случиться, чтоб это от моего решения зависело? И кто меня тут судьей поставил: кому жить, кому не жить?
Уж как божий промысл замешается, так уж тут ничего не поделаешь, - угрюмо проворчал Раскольников.
Говорите лучше прямо, чего вам надобно! - вскричала с страданием Соня, - вы опять на что-то наводите… Неужели вы только затем, чтобы мучить, пришли!
Она не выдержала и вдруг горько заплакала. В мрачной тоске смотрел он на нее. Прошло минут пять.
А ведь ты права, Соня, - тихо проговорил он наконец. Он вдруг переменился; выделанно-нахальный и бессильно-вызывающий тон его исчез. Даже голос вдруг ослабел. - Сам же я тебе сказал вчера, что не прощения приду просить, а почти тем вот и начал, что прощения прошу… Это я про Лужина и промысл для себя говорил… Я это прощения просил, Соня… Он хотел было улыбнуться, но что-то бессильное и недоконченное сказалось в его бледной улыбке. Он склонил голову и закрыл руками лицо.
И вдруг странное, неожиданное ощущение какой-то едкой ненависти к Соне прошло по его сердцу. Как бы удивясь и испугавшись сам этого ощущения, он вдруг поднял голову и пристально поглядел на нее; но он встретил на себе беспокойный и до муки заботливый взгляд ее; тут была любовь; ненависть его исчезла, как призрак. Это было не то; он принял одно чувство за другое. Это только значило, что та минута прошла.
Опять он закрыл руками лицо и склонил вниз голову. Вдруг он побледнел, встал со стула, посмотрел на Соню и, ничего не выговорив, пересел на ее постель.
Эта минута была ужасно похожа, в его ощущении, на ту, когда он стоял за старухой, уже высвободив из петли топор, и почувствовал, что уже «ни мгновения нельзя было терять более».
Что с вами? - спросила Соня, ужасно оробевшая.
Он ничего не мог выговорить. Он совсем, совсем не так предполагал объявить и сам не понимал того, что теперь с ним делалось. Она тихо подошла к нему, села на постель подле и ждала, не сводя с него глаз. Сердце ее стучало и замирало. Стало невыносимо: он обернул к ней мертво-бледное лицо свое; губы его бессильно кривились, усиливаясь что-то выговорить. Ужас прошел по сердцу Сони.
Что с вами? - повторила она, слегка от него отстраняясь.
Ничего, Соня. Не пугайся… Вздор! Право, если рассудить, - вздор, - бормотал он с видом себя не помнящего человека в бреду. - Зачем только тебя-то я пришел мучить? - прибавил он вдруг, смотря на нее. - Право. Зачем? Я все задаю себе этот вопрос, Соня…
Он, может быть, и задавал себе этот вопрос четверть часа назад, но теперь проговорил в полном бессилии, едва себя сознавая и ощущая беспрерывную дрожь во всем своем теле.
Ох, как вы мучаетесь! - с страданием произнесла она, вглядываясь в него.
Все вздор!.. Вот что, Соня (он вдруг отчего-то улыбнулся, как-то бледно и бессильно, секунды на две), - помнишь ты, что я вчера хотел тебе сказать?
Соня беспокойно ждала.
Я сказал, уходя, что, может быть, прощаюсь с тобой навсегда, но что если приду сегодня, то скажу тебе… кто убил Лизавету.
Она вдруг задрожала всем телом.
Ну так вот, я и пришел сказать.
Так вы это в самом деле вчера… - с трудом прошептала она, - почему ж вы знаете? - быстро спросила она, как будто вдруг опомнившись.
Соня начала дышать с трудом. Лицо становилось все бледнее и бледнее.
Она помолчала с минуту.
Нашли, что ли, его? - робко спросила она.
Нет, не нашли.
Так как же вы про это знаете? - опять чуть слышно спросила она, и опять почти после минутного молчания.
Он обернулся к ней и пристально-пристально посмотрел на нее.
Угадай, - проговорил он с прежнею искривленною и бессильною улыбкой.
Точно конвульсии пробежали по всему ее телу.
Да вы… меня… что же вы меня так… пугаете? - проговорила она, улыбаясь как ребенок.
Стало быть, я с ним приятель большой… коли знаю, - продолжал Раскольников, неотступно продолжая смотреть в ее лицо, точно уже был не в силах отвести глаз, - он Лизавету эту… убить не хотел… Он ее… убил нечаянно… Он старуху убить хотел… когда она была одна… и пришел… А тут вошла Лизавета… Он тут… и ее убил.
Прошла еще ужасная минута. Оба все глядели друг на друга.
Так не можешь угадать-то? - спросил он вдруг, с тем ощущением, как бы бросался вниз с колокольни.
Н-нет, - чуть слышно прошептала Соня.
Погляди-ка хорошенько.
И как только он сказал это, опять одно прежнее, знакомое ощущение оледенило вдруг его душу: он смотрел на нее и вдруг, в ее лице, как бы увидел лицо Лизаветы. Он ярко запомнил выражение лица Лизаветы, когда он приближался к ней тогда с топором, а она отходила от него к стене, выставив вперед руку, с совершенно детским испугом в лице, точь-в-точь как маленькие дети, когда они вдруг начинают чего-нибудь пугаться, смотрят неподвижно и беспокойно на пугающий их предмет, отстраняются назад и, протягивая вперед ручонку, готовятся заплакать. Почти то же самое случилось теперь и с Соней: так же бессильно, с тем же испугом, смотрела она на него несколько времени и вдруг, выставив вперед левую руку, слегка, чуть-чуть, уперлась ему пальцами в грудь и медленно стала подниматься с кровати, все более и более от него отстраняясь, и все неподвижнее становился ее взгляд на него. Ужас ее вдруг сообщился и ему: точно такой же испуг показался и в его лице, точно так же и он стал смотреть на нее, и почти даже с тою же детскою улыбкой.
Угадала? - прошептал он наконец.
Господи! - вырвался ужасный вопль из груди ее. Бессильно упала она на постель, лицом в подушки. Но через мгновение быстро приподнялась, быстро придвинулась к нему, схватила его за обе руки и, крепко сжимая их, как в тисках, тонкими своими пальцами, стала опять неподвижно, точно приклеившись, смотреть в его лицо. Этим последним, отчаянным взглядом она хотела высмотреть и уловить хоть какую-нибудь последнюю себе надежду. Но надежды не было; сомнения не оставалось никакого; все было так! Даже потом, впоследствии, когда она припоминала эту минуту, ей становилось и странно, и чудно: почему именно она так сразу увидела тогда, что нет уже никаких сомнений? Ведь не могла же она сказать, например, что она что-нибудь в этом роде предчувствовала? А между тем, теперь, только что он сказал ей это, ей вдруг показалось, что действительно она как будто это самое и предчувствовала.
Полно, Соня, довольно! Не мучь меня! - страдальчески попросил он.
Он совсем, совсем не так думал открыть ей, но вышло так.
Как бы себя не помня, она вскочила и, ломая руки, дошла до средины комнаты; но быстро воротилась и села опять подле него, почти прикасаясь к нему плечом к плечу. Вдруг, точно пронзенная, она вздрогнула, вскрикнула и бросилась, сама не зная для чего перед ним на колени.
Что вы, что вы это над собой сделали! - отчаянно проговорила она и, вскочив с колен, бросилась ему на шею, обняла его и крепко-крепко сжала его руками.
Раскольников отшатнулся и с грустною улыбкой посмотрел на нее:
Странная какая ты, Соня, - обнимаешь и целуешь, когда я тебе сказал про это. Себя ты не помнишь.
Нет, нет тебя несчастнее никого теперь в целом свете! - воскликнула она, как в исступлении, не слыхав его замечания, и вдруг заплакала навзрыд, как в истерике.
Давно уже незнакомое ему чувство волной хлынуло в его душу и разом размягчило ее. Он не сопротивлялся ему: две слезы выкатились из его глаз и повисли на ресницах.
Так не оставишь меня, Соня? - говорил он, чуть не с надеждой смотря на нее.
Нет, нет; никогда и нигде! - вскрикнула Соня, - за тобой пойду, всюду пойду! О господи!.. Ох, я несчастная!.. И зачем, зачем я тебя прежде не знала! Зачем ты прежде не приходил? О господи!
Вот и пришел.
Теперь-то! О, что теперь делать!.. Вместе, вместе! - повторяла она как бы в забытьи и вновь обнимала его, - в каторгу с тобой вместе пойду! - Его как бы вдруг передернуло, прежняя, ненавистная и почти надменная улыбка выдавилась на губах его.
Я, Соня, еще в каторгу-то, может, и не хочу идти, - сказал он.
Соня быстро на него посмотрела.
После первого, страстного и мучительного сочувствия к несчастному опять страшная идея убийства поразила ее. В переменившемся тоне его слов ей вдруг послышался убийца. Она с изумлением глядела на него. Ей ничего еще не было известно, ни зачем, ни как, ни для чего это было. Теперь все эти вопросы разом вспыхнули в ее сознании. И опять она не поверила: «Он, он убийца! Да разве это возможно?»
Да что это! Да где это я стою! - проговорила она в глубоком недоумении, как будто еще не придя в себя, - да как вы, вы, такой… могли на это решиться?.. Да что это!
Ну да, чтобы ограбить. Перестань, Соня! - как-то устало и даже как бы с досадой ответил он.
Соня стояла как бы ошеломленная, но вдруг вскричала:
Ты был голоден! ты… чтобы матери помочь? Да?
Нет, Соня, нет, - бормотал он, отвернувшись и свесив голову, - не был я так голоден… я действительно хотел помочь матери, но… и это не совсем верно… не мучь меня, Соня!
Соня всплеснула руками.
Да неужель, неужель это все взаправду! Господи, да какая ж это правда! Кто же этому может поверить?.. И как же, как же вы сами последнее отдаете, а убили, чтоб ограбить! А!.. - вскрикнула она вдруг, - те деньги, что Катерине Ивановне отдали… те деньги… Господи, да неужели ж и те деньги…
Нет, Соня, - торопливо прервал он, - эти деньги были не те, успокойся! Эти деньги мне мать прислала, через одного купца, и получил я их больной, в тот же день, как и отдал… Разумихин видел… он же и получал за меня… эти деньги мои, мои собственные, настоящие мои.
Соня слушала его в недоумении и из всех сил старалась что-то сообразить.
А те деньги… я, впрочем, даже и не знаю, были ли там и деньги-то, - прибавил он тихо и как бы в раздумье, - я снял у ней тогда кошелек с шеи, замшевый… полный, тугой такой кошелек… да я не посмотрел в него; не успел, должно быть… Ну а вещи, какие-то все запонки да цепочки, - я все эти вещи и кошелек на чужом одном дворе, на В-м проспекте под камень схоронил, на другое же утро… Все там и теперь лежит…
Соня из всех сил слушала.
Ну, так зачем же… как же вы сказали: чтоб ограбить, а сами ничего не взяли? - быстро спросила она, хватаясь за соломинку.
Не знаю… я еще не решил - возьму или не возьму эти деньги, - промолвил он, опять как бы в раздумье, и вдруг, опомнившись, быстро и коротко усмехнулся. - Эх, какую я глупость сейчас сморозил, а?
У Сони промелькнула было мысль: «Не сумасшедший ли?» Но тотчас же она ее оставила: нет, тут другое. Ничего, ничего она тут не понимала!
Знаешь, Соня, - сказал он вдруг с каким-то вдохновением, - знаешь, что я тебе скажу: если б только я зарезал из того, что голоден был, - продолжал он, упирая в каждое слово и загадочно, но искренно смотря на нее, - то я бы теперь… счастлив был! Знай ты это!
И что тебе, что тебе в том, - вскричал он через мгновение с каким-то даже отчаянием, - ну что тебе в том, если б я и сознался сейчас, что дурно сделал? Ну что тебе в этом глупом торжестве надо мною? Ах, Соня, для того ли я пришел к тебе теперь!
Соня опять хотела было что-то сказать, но промолчала.
Потому я и звал с собою тебя вчера, что одна ты у меня и осталась.
Куда звал? - робко спросила Соня.
Не воровать и не убивать, не беспокойся, не за этим, - усмехнулся он едко, - мы люди розные… И знаешь, Соня, я ведь только теперь, только сейчас понял: куда тебя звал вчера? А вчера, когда звал, я и сам не понимал куда. За одним и звал, за одним приходил: не оставить меня. Не оставишь, Соня?
Она стиснула ему руку.
И зачем, зачем я ей сказал, зачем я ей открыл! - в отчаянии воскликнул он через минуту, с бесконечным мучением смотря на нее, - вот ты ждешь от меня объяснений, Соня, сидишь и ждешь, я это вижу; а что я скажу тебе? Ничего ведь ты не поймешь в этом, а только исстрадаешься вся… из-за меня! Ну вот, ты плачешь и опять меня обнимаешь, - ну за что ты меня обнимаешь? За то, что я сам не вынес и на другого пришел свалить: «страдай и ты, мне легче будет!» И можешь ты любить такого подлеца?
Да разве ты тоже не мучаешься? - вскричала Соня.
Опять то же чувство волной хлынуло в его душу и опять на миг размягчило ее.
Соня, у меня сердце злое, ты это заметь: этим можно многое объяснить. Я потому и пришел, что зол. Есть такие, которые не пришли бы. А я трус и… подлец! Но… пусть! все это не то… Говорить теперь надо, а я начать не умею…
Он остановился и задумался.
Э-эх, люди мы розные! - вскричал он опять, - не пара. И зачем, зачем я пришел! Никогда не прощу себе этого!
Нет, нет, это хорошо, что пришел! - восклицала Соня, - это лучше, чтоб я знала! Гораздо лучше!
Он с болью посмотрел на нее.
А что и в самом деле! - сказал он, как бы надумавшись, - ведь это ж так и было! Вот что: я хотел Наполеоном сделаться, оттого и убил… Ну, понятно теперь?
Н-нет, - наивно и робко прошептала Соня, - только… говори, говори! Я пойму, я про себя все пойму! - упрашивала она его. - Поймешь? Ну, хорошо, посмотрим!
Он замолчал и долго обдумывал.
Штука в том: я задал себе один раз такой вопрос: что если бы, например, на моем месте случился Наполеон и не было бы у него, чтобы карьеру начать, ни Тулона, ни Египта, ни перехода через Монблан, а была бы вместо этих красивых и монументальных вещей просто-запросто одна какая-нибудь смешная старушонка, легистраторша, которую вдобавок надо убить, чтоб из сундука у ней деньги стащить (для карьеры-то, понимаешь?), ну, так решился ли бы он на это, если бы другого выхода не было? Не покоробился ли бы оттого, что это уж слишком не монументально и… и грешно? Ну, так я тебе говорю, что на этом «вопросе» я промучился ужасно долго, так что ужасно стыдно мне стало, когда я наконец догадался (вдруг как-то), что не только его не покоробило бы, но даже и в голову бы ему не пришло, что это не монументально… и даже не понял бы он совсем: чего тут коробиться? И уж если бы только не было ему другой дороги, то задушил бы так, что и пикнуть бы не дал, без всякой задумчивости!.. Ну и я… вышел из задумчивости… задушил… по примеру авторитета… И это точь-в-точь так и было! Тебе смешно? Да, Соня, тут всего смешнее то, что, может, именно оно так и было…
Соне вовсе не было смешно.
Вы лучше говорите мне прямо… без примеров, - еще робче и чуть слышно попросила она.
Он поворотился к ней, грустно посмотрел на нее и взял ее за руки.
Ты опять права, Соня. Это все ведь вздор, почти одна болтовня! Видишь: ты ведь знаешь, что у матери моей почти ничего нет. Сестра получила воспитание, случайно, и осуждена таскаться в гувернантках. Все их надежды были на одного меня. Я учился, но содержать себя в университете не мог и на время принужден был выйти. Если бы даже и так тянулось, то лет через десять, через двенадцать (если б обернулись хорошо обстоятельства) я все-таки мог надеяться стать каким-нибудь учителем или чиновником, с тысячью рублями жалованья… (Он говорил как будто заученное.) А к тому времени мать высохла бы от забот и от горя, и мне все-таки не удалось бы успокоить ее, а сестра… ну, с сестрой могло бы еще и хуже случиться!.. Да и что за охота всю жизнь мимо всего проходить и от всего отвертываться, про мать забыть, а сестрину обиду, например, почтительно перенесть? Для чего? Для того ль, чтоб, их схоронив, новых нажить - жену да детей, и тоже потом без гроша и без куска оставить? Ну… ну, вот я и решил, завладев старухиными деньгами, употребить их на мои первые годы, не мучая мать, на обеспечение себя в университете, на первые шаги после университета, - и сделать все это широко, радикально, так чтоб уж совершенно всю новую карьеру устроить и на новую, независимую дорогу стать… Ну… ну, вот и все… Ну, разумеется, что я убил старуху, - это я худо сделал… ну, и довольно!
В каком-то бессилии дотащился он до конца рассказа и поник головой.
Ох, это не то, не то, - в тоске восклицала Соня, - и разве можно так… нет, это не так, не так!
Сама видишь, что не так!.. А я ведь искренно рассказал, правду!
Да какая ж это правда! О господи!
Я ведь только вошь убил, Соня, бесполезную, гадкую, зловредную.
Это человек-то вошь!
Да ведь и я знаю, что не вошь, - ответил он, странно смотря на нее. - А впрочем, я вру, Соня, - прибавил он, - давно уже вру… Это все не то; ты справедливо говоришь. Совсем, совсем, совсем тут другие причины!.. Я давно ни с кем не говорил, Соня… Голова у меня теперь очень болит.
Глаза его горели лихорадочным огнем. Он почти начинал бредить; беспокойная улыбка бродила на его губах. Сквозь возбужденное состояние духа уже проглядывало страшное бессилие. Соня поняла, как он мучается. У ней тоже голова начинала кружиться. И странно он так говорил: как будто и понятно что-то, но… «но как же! Как же! О господи!» И она ломала руки в отчаянии.
Нет, Соня, это не то! - начал он опять, вдруг поднимая голову, как будто внезапный поворот мыслей поразил и вновь возбудил его, - это не то! А лучше… предположи (да! этак действительно лучше!), предположи, что я самолюбив, завистлив, зол, мерзок, мстителен, ну… и, пожалуй, еще наклонен к сумасшествию. (Уж пусть все зараз! Про сумасшествие-то говорили и прежде, я заметил!) Я вот тебе сказал давеча, что в университете себя содержать не мог. А знаешь ли ты, что я, может, и мог? Мать прислала бы, чтобы внести, что надо, а на сапоги, платье и хлеб я бы и сам заработал; наверно! Уроки выходили; по полтиннику предлагали. Работает же Разумихин! Да я озлился и не захотел. Именно озлился (это слово хорошее!). Я тогда, как паук, к себе в угол забился. Ты ведь была в моей конуре, видела… А знаешь ли, Соня, что низкие потолки и тесные комнаты душу и ум теснят! О, как ненавидел я эту конуру! А все-таки выходить из нее не хотел. Нарочно не хотел! По суткам не выходил, и работать не хотел, и даже есть не хотел, все лежал. Принесет Настасья - поем, не принесет - так и день пройдет; нарочно со зла не спрашивал! Ночью огня нет, лежу в темноте, а на свечи не хочу заработать. Надо было учиться, я книги распродал; а на столе у меня, на записках да на тетрадях, на палец и теперь пыли лежит. Я лучше любил лежать и думать. И все думал… И все такие у меня были сны, странные, разные сны, нечего говорить какие! Но только тогда начало мне мерещиться, что… Нет, это не так! Я опять не так рассказываю! Видишь, я тогда все себя спрашивал: зачем я так глуп, что если другие глупы и коли я знаю уж наверно, что они глупы, то сам не хочу быть умнее? Потом я узнал, Соня, что если ждать, пока все станут умными, то слишком уж долго будет… Потом я еще узнал, что никогда этого и не будет, что не переменятся люди, и не переделать их никому, и труда не стоит тратить! Да, это так! Это их закон… Закон, Соня! Это так!.. И я теперь знаю, Соня, что кто крепок и силен умом и духом, тот над ними и властелин! Кто много посмеет, тот у них и прав. Кто на большее может плюнуть, тот у них и законодатель, а кто больше всех может посметь, тот и всех правее! Так доселе велось и так всегда будет! Только слепой не разглядит!
Раскольников, говоря это, хоть и смотрел на Соню, но уж не заботился более: поймет она или нет. Лихорадка вполне охватила его. Он был в каком-то мрачном восторге. (Действительно, он слишком долго ни с кем не говорил!) Соня поняла, что этот мрачный катехизис стал его верой и законом.
Я догадался тогда, Соня, - продолжал он восторженно, - что власть дается только тому, кто посмеет наклониться и взять ее. Тут одно только, одно: стоит только посметь! У меня тогда одна мысль выдумалась, в первый раз в жизни, которую никто и никогда еще до меня не выдумывал! Никто! Мне вдруг ясно, как солнце, представилось, что как же это ни единый до сих пор не посмел и не смеет, проходя мимо всей этой нелепости, взять просто-запросто все за хвост и стряхнуть к черту! Я… я захотел осмелиться и убил… я только осмелиться захотел, Соня, вот вся причина!
О, молчите, молчите! - вскрикнула Соня, всплеснув руками. - От бога вы отошли, и бог вас поразил, дьяволу предал!..
Кстати, Соня, это когда я в темноте-то лежал и мне все представлялось, это ведь дьявол смущал меня? а?
Молчите! Не смейтесь, богохульник, ничего, ничего-то вы не понимаете! О господи! Ничего-то, ничего-то он не поймет!
Молчи, Соня, я совсем не смеюсь, я ведь и сам знаю, что меня черт тащил. Молчи, Соня, молчи! - повторил он мрачно и настойчиво. - Я все знаю. Все это я уже передумал и перешептал себе, когда лежал тогда в темноте… Все это я сам с собой переспорил, до последней малейшей черты, и все знаю, все! И так надоела, так надоела мне тогда вся эта болтовня! Я все хотел забыть и вновь начать, Соня, и перестать болтать! И неужели ты думаешь, что я как дурак пошел, очертя голову? Я пошел как умник, и это-то меня и сгубило! И неужель ты думаешь, что я не знал, например, хоть того, что если уж начал я себя спрашивать и допрашивать: имею ль я право власть иметь? - то, стало быть, не имею права власть иметь. Или что если задаю вопрос: вошь ли человек? - то, стало быть, уж не вошь человек для меня, а вошь для того, кому этого и в голову не заходит и кто прямо без вопросов идет… Уж если я столько дней промучился: пошел ли бы Наполеон или нет? - так ведь уж ясно чувствовал, что я не Наполеон… Всю, всю муку всей этой болтовни я выдержал, Соня, и всю ее с плеч стряхнуть пожелал: я захотел, Соня, убить без казуистики, убить для себя, для себя одного! Я лгать не хотел в этом даже себе! Не для того, чтобы матери помочь, я убил - вздор! Не для того я убил, чтобы, получив средства и власть, сделаться благодетелем человечества. Вздор! Я просто убил; для себя убил, для себя одного: а там стал ли бы я чьим-нибудь благодетелем или всю жизнь, как паук, ловил бы всех в паутину и их всех живые соки высасывал, мне, в ту минуту, все равно должно было быть!.. И не деньги, главное, нужны мне были, Соня, когда я убил; не столько деньги нужны были, как другое… Я это все теперь знаю… Пойми меня: может быть, тою же дорогой идя, я уже никогда более не повторил бы убийства. Мне другое надо было узнать, другое толкало меня под руки: мне надо было узнать тогда, и поскорей узнать, вошь ли я, как все, или человек? Смогу ли я переступить или не смогу! Осмелюсь ли нагнуться и взять или нет? Тварь ли я дрожащая или право имею…
Убивать? Убивать-то право имеете? - всплеснула руками Соня.
Э-эх, Соня! - вскрикнул он раздражительно, хотел было что-то ей возразить, но презрительно замолчал. - Не прерывай меня, Соня! Я хотел тебе только одно доказать: что черт-то меня тогда потащил, а уж после того мне объяснил, что не имел я права туда ходить, потому что я такая же точно вошь, как и все! Насмеялся он надо мной, вот я к тебе и пришел теперь! Принимай гостя! Если б я не вошь был, то пришел ли бы я к тебе? Слушай, когда я тогда к старухе ходил, я только попробовать сходил… Так и знай!
И убили! Убили!
Да ведь как убил-то? Разве так убивают? Разве так идут убивать, как я тогда шел! Я тебе когда-нибудь расскажу, как я шел… Разве я старушонку убил? Я себя убил, а не старушонку! Тут так-таки разом и ухлопал себя, навеки!.. А старушонку эту черт убил, а не я… Довольно, довольно, Соня, довольно! Оставь меня, - вскричал он вдруг в судорожной тоске, - оставь меня!
Он облокотился на колена и, как в клещах, стиснул себе ладонями голову.
Экое страдание! - вырвался мучительный вопль у Сони.
Ну, что теперь делать, говори! - спросил он, вдруг подняв голову и с безобразно искаженным от отчаяния лицом смотря на нее.
Что делать! - воскликнула она, вдруг вскочив с места, и глаза ее, доселе полные слез, вдруг засверкали. - Встань! (Она схватила его за плечо; он приподнялся, смотря на нее почти в изумлении.) Поди сейчас, сию же минуту, стань на перекрестке, поклонись, поцелуй сначала землю, которую ты осквернил, а потом поклонись всему свету, на все четыре стороны, и скажи всем, вслух: «Я убил!» Тогда бог опять тебе жизни пошлет. Пойдешь? Пойдешь? - спрашивала она его, вся дрожа, точно в припадке, схватив его за обе руки, крепко стиснув их в своих руках и смотря на него огневым взглядом.
Он изумился и был даже поражен ее внезапным восторгом.
Это ты про каторгу, что ли, Соня? Донести, что ль, на себя надо? - спросил он мрачно.
Страдание принять и искупить себя им, вот что надо.
Нет! Не пойду я к ним, Соня.
А жить-то, жить-то как будешь? Жить-то с чем будешь? - восклицала Соня. - Разве это теперь возможно? Ну как ты с матерью будешь говорить? (О, с ними-то, с ними-то что теперь будет!) Да что я! Ведь ты уж бросил мать и сестру. Вот ведь уж бросил же, бросил. О господи! - вскрикнула она, - ведь он уже это все знает сам! Ну как же, как же без человека-то прожить! Что с тобой теперь будет!
Не будь ребенком, Соня, - тихо проговорил он. - В чем я виноват перед ними? Зачем пойду? Что им скажу? Все это один только призрак… Они сами миллионами людей изводят, да еще за добродетель почитают. Плуты и подлецы они, Соня!.. Не пойду. И что я скажу: что убил, а денег взять не посмел, под камень спрятал? - прибавил он с едкою усмешкой. - Так ведь они же надо мной сами смеяться будут, скажут: дурак, что не взял. Трус и дурак! Ничего, ничего не поймут они, Соня, и недостойны понять. Зачем я пойду? Не пойду. Не будь ребенком, Соня…
Замучаешься, замучаешься, - повторяла она, в отчаянной мольбе простирая к нему руки.
Я, может, на себя еще наклепал, - мрачно заметил он, как бы в задумчивости, - может, я еще человек, а не вошь и поторопился себя осудить… Я еще поборюсь.
Надменная усмешка выдавливалась на губах его.
Этакую-то муку нести! Да ведь целую жизнь, целую жизнь!..
Привыкну… - проговорил он угрюмо и вдумчиво. - Слушай, - начал он через минуту, - полно плакать, пора о деле: я пришел тебе сказать, что меня теперь ищут, ловят…
Ах, - вскрикнула Соня испуганно.
Ну что же ты вскрикнула! Сама желаешь, чтоб я в каторгу пошел, а теперь испугалась? Только вот что: я им не дамся. Я еще с ними поборюсь, и ничего не сделают. Нет у них настоящих улик. Вчера я был в большой опасности и думал, что уж погиб; сегодня же дело поправилось. Все улики их о двух концах, то есть их обвинения я в свою же пользу могу обратить, понимаешь? и обращу; потому я теперь научился… Но в острог меня посадят наверно. Если бы не один случай, то, может, и сегодня бы посадили, наверно даже, может, еще и посадят сегодня… Только это ничего, Соня: посижу, да и выпустят… потому нет у них ни одного настоящего доказательства и не будет, слово даю. А с тем, что у них есть, нельзя упечь человека. Ну, довольно… Я только, чтобы ты знала… С сестрой и матерью я постараюсь как-нибудь так сделать, чтоб их разуверить и не испугать… Сестра теперь, впрочем, кажется, обеспечена… стало быть, и мать… Ну, вот и все. Будь, впрочем, осторожна. Будешь ко мне в острог ходить, когда я буду сидеть?
О, буду! Буду!
Оба сидели рядом, грустные и убитые, как бы после бури выброшенные на пустой берег одни. Он смотрел на Соню и чувствовал, как много на нем было ее любви, и странно, ему стало вдруг тяжело и больно, что его так любят. Да, это было странное и ужасное ощущение! Идя к Соне, он чувствовал, что в ней вся его надежда и весь исход; он думал сложить хоть часть своих мук, и вдруг, теперь, когда все сердце ее обратилось к нему, он вдруг почувствовал и сознал, что он стал беспримерно несчастнее, чем был прежде.
Соня, - сказал он, - уж лучше не ходи ко мне, когда я буду в остроге сидеть.
Соня не ответила, она плакала. Прошло несколько минут.
Есть на тебе крест? - вдруг неожиданно спросила она, точно вдруг вспомнила.
Он сначала не понял вопроса.
Нет, ведь нет? На, возьми вот этот, кипарисный. У меня другой остался, медный, Лизаветин. Мы с Лизаветой крестами поменялись, она мне свой крест, а я ей свой образок дала. Я теперь Лизаветин стану носить, а этот тебе. Возьми… ведь мой! Ведь мой! - упрашивала она. - Вместе ведь страдать пойдем, вместе и крест понесем!..
Дай! - сказал Раскольников. Ему не хотелось ее огорчить. Но он тотчас же отдернул протянутую за крестом руку.
Не теперь, Соня. Лучше потом, - прибавил он, чтоб ее успокоить.
Да, да, лучше, лучше, - подхватила она с увлечением, - как пойдешь на страдание, тогда и наденешь. Придешь ко мне, я надену на тебя, помолимся и пойдем.
В это мгновение кто-то три раза стукнул в дверь.
Софья Семеновна, можно к вам? - послышался чей-то очень знакомый вежливый голос.
Соня бросилась к дверям в испуге. Белокурая физиономия господина Лебезятникова заглянула в комнату.
У Лужина из-за расстроенной женитьбы большие убытки (неустойка за квартиру, невозвращенный задаток за новую мебель и т. д.). Лужин - среди приглашенных на поминки, а также его сосед Андрей Семенович Лебезятников, «прогрессист», имеющий отношение к «кружкам», хотя «пошленький, простоватенький человек». Его Лужин также хотел использовать в своей карьере, «заискивая у молодого поколения». Лебезятников говорит с Лужиным о «прогрессивных» идеях - эмансипации, гражданском браке, «коммунах» (Достоевский высмеивает все это), считает, что его призвание в жизни - «протестовать» против всех и вся. Несмотря на это, он говорит о Соне хорошо. Лужин просит Лебезятникова привести Соню. Тот приводит. Лужин до этого считал на столе деньги, и по приходе Сони дает ей 10 рублей под видом помощи.
Катерина Ивановна пребывает в раздраженном состоянии, т. к. почти никто из приглашенных на поминки не явился, в том числе и Лужин с Лебезятникозым. Во время поминок происходит скандал между Катериной Ивановной и Амалией Ивановной, квартирной хозяйкой. В разгар перебранки появляется Лужин. Он обвиняет Соню в том, что она украла у него 100 рублей. Соня отвечает, что ничего не брала, только 10 рублей, которые ей Лужин сам дал, и возвращает ему деньги. Лужин настаивает, что у него пропал 100-рублевый банкнот. Катерина Ивановна защищает Соню, выворачивает ей карманы, чтобы показать, что в них ничего нет. Из кармана выпадает 100 рублей. Пришедший в это время Лебезятников свидетельствует, что Лужин сам подсунул эти 100 рублей Соне в карман, и готов принять в этом присягу. Раньше Лебезятников думал, что Лужин хочет сделать благодеяние, но незаметно, поэтому Лебезятников молчал. Раскольников объясняет присутствующим, что Лужин хотел таким образом поссорить его с семьей, доказав, что Соня, которую Раскольников защищал и которой помогал, - воровка. Тогда бы Лужин восстановил свои намерения на брак с Дуней, как человек, предупреждавший ее о «характере этой девицы» заранее. Лужин понимает, что попался, но не показывает этого, принимает наглый вид, ускользает из комнаты, собирает свои вещи и съезжает с квартиры. Квартирная хозяйка гонит и Катерину Ивановну с детьми. Та со словами «я найду справедливость» собирается идти на улицу.
Раскольников уходит, отправляется к Соне. Признается ей, что убил старуху и Лизавету. Соня плачет, говорит: «Что вы это над собой сделали!», имея в виду то, что Раскольников, будучи человеком, попытался преступить общечеловеческие законы. Соня говорит, что пойдет за Раскольниковым в каторгу. Раскольников рассказывает ей о своей теории. «Я ведь только вошь убил». Соня: «Это человек-то вошь?» Раскольников: «Это закон людской. Людей не переделать. Власть дается только тому, кто посмеет наклониться и взять ее. Надо только посметь. И я захотел осмелиться. Беда в том, что человек не вошь для меня, он вошь для того, кто и не задумывается над этим вопросом. Выходит, я не имел права, т. к. я точно такая же вошь, как все. Я себя убил, а не старушонку. Что теперь делать?» Соня говорит, что «надо пойти на перекресток» и сказать людям «я убил», покаяться перед ними. Тогда Бог опять жизнь пошлет. Раскольников возражает, что ему не в чем каяться, что люди сами друг друга миллионами изводят, что они сами подлецы и что он «еще поборется», что, возможно, он рано себя осудил, что он, может быть, «человек, а не вошь». Соня предлагает дать Раскольникову крест, который достался ей от Лизаветы. Раскольников хочет взять, но в следующий момент говорит, что «потом». Приходит Лебе-зятников, сообщает, что Катерина Ивановна ходила к генералу - начальнику покойного мужа, ее выгнали, вышел скандал. Теперь она «шьет детям какие-то шапочки, чтобы ходить по дворам, крутить шарманку и собирать подаяние». Она надевает на голову драдедамовый платок (тот самый, которым укрывала Соню, когда та в первый раз вернулась с панели и Катерина Ивановна на коленях просила у нее прощения).
Раскольников идет домой. Туда приходит Дуня, говорит, что Разумихин рассказал ей все, она теперь знает, что Раскольникова преследуют по подозрению в убийстве, но она не верит. Раскольников отвечает, что Дмитрий Прокофьевич Разумихин очень хороший человек и способен сильно любить, потом прощается с сестрой. Идет бродить по улицам. Встречается с Лебезятниковым, который говорит, что Катерина Ивановна ходит по улицам, «бьет в сковороду, а детей заставляет плясать». Соня ходит за ней, уговаривая вернуться домой. Катерина Ивановна не соглашается, говоря «достаточно мы тебя мучили». Раскольников идет на указанную улицу и тоже пытается вразумить Катерину Ивановну, но та не слушает. Какой-то чиновник с орденом дает ей 3 рубля. Приходит городовой, требует «прекратить безобразие». Дети, испугавшись, пытаются убежать. Катерина Ивановна бежит за ними, но падает, у нее открывается горловое кровотечение. Катерину Ивановну при помощи городового и чиновника относят домой к Соне. Сбегаются соседи, среди них - Свидригайлов. Катерина Ивановна бредит, потом умирает. Свидригайлов говорит, что похороны берет на себя, что детей устроит в сиротские заведения и положит каждому до совершеннолетия по 1500 рублей. Просит передать Дуне, что он так употребил ее деньги. На вопрос Раскольникова, что это он так расщедрился, Свидригайлов отвечает его же словами, что иначе «Полечка по той же дороге, что и Соня, пойдет». Затем говорит, что живет через стенку от Сони и что Раскольников его чрезвычайно заинтересовал.
Часть 6
После смерти Катерины Ивановны прошло 3 дня. Раскольников встречался несколько раз со Свидригайловым, но не говорил о главном. Свидригайлов удачно пристроил детей Катерины Ивановны, служит по ней в день по две панихиды. Раскольников с Разумихиным говорят о Дуне и Пульхерии Александровне (матери Раскольникова). Разумихин вскользь упоминает о признавшемся в убийстве Миколае. Раскольников понимает, что Порфирий Петрович знает, что Миколай на самом деле не виноват. Раскольников сидит у себя дома. К нему приходит Порфирий Петрович, рассказывает, как из подозрений, косвенных данных у него выросла убежденность в виновности Раскольникова. Оказывается, он и с обыском на квартире Раскольникова был, когда тот в беспамятстве лежал, и слухи специально распускал, ожидая, что Раскольников клюнет и сам придет. Постепенно все совпало до мелочей, а Миколка - человек набожный, «фантаст», жил у какого-то божьего старца в свое время, сектант. Решил «за других пострадать». Раскольников: «Так кто же убил?» Порфирий Петрович: «Вы». Раскольников: «Почему тогда не арестуете?» Порфирий Петрович: «Доказательств нет пока. Но обязательно вас арестую. Поэтому, пока не поздно, явитесь с повинной. Сбавка будет, я помогу. Впереди еще много жизни будет. Ведь вы совсем не такой подлец, по крайней мере долго себя не морочили (теорией), сразу «до последних столбов» дошли. А «жизнь вынесет на берег, на ноги поставит, на какой берег - не ясно, но вынесет непременно. Обретите Бога - и все будет по плечу... Станьте солнцем - и вас все увидят». Раскольников: «Когда вы меня арестуете?» Порфирий Петрович: «Дня через два. Если вы руки на себя наложить захотите, то оставьте записку, что и как». Порфирий Петрович уходит.
Раскольников отправляется к Свидригайлову, который для Раскольникова до сих пор загадка. Он встречает Свидригайлова в трактире. Говорят. Свидригайлов рассказывает, что приехал в Петербург «на предмет женщин». «Пусть это разврат, но в нем есть что-то постоянное. Во всем надо держать веру, расчет, хоть и подлый. Иначе бы застрелиться пришлось». Раскольников: «Мерзость окружающей обстановки на вас не действует? Уже не можете остановиться?» Свидригайлов в ответ рассказывает о своей жизни. Марфа Петровна выкупила его из тюрьмы. «Знаете, до какой степени одурманения может иногда полюбить женщина?» Свидригайлов сразу сказал ей, что «совершенно верен быть ей не может». «После долгих слез состоялся между нами такого рода контракт:
- Я никогда не оставлю Марфу Петровну и всегда пребуду ее мужем.
- Без ее позволения не отлучусь никуда.
- Постоянной любовницы не заведу.
- За это Марфа Петровна позволяет мне иногда приглянуть на сенных девушек, но не иначе как с ее секретного ведома.
- Боже сохрани меня полюбить женщину из нашего сословия.
- Если меня посетит большая страсть, я должен открыться Марфе Петровне.
Ссоры были частые, но все кончалось хорошо, так как Марфа Петровна была женщина умная, а я большей частью молчал и не раздражался. Но вашей сестрицы она снести не смогла, хотя сама ввела в дом, была расположена к ней необычайно и даже сама мне расхваливала. Марфа Петровна рассказала Авдотье Романовне обо мне всю подноготную, включая слухи и сплетни (она любила всем подряд на меня жаловаться). Я видел, что несмотря на отвращение, Авдотья Романовна меня жалеет (а тут сразу возникает желание исправить, спасти, образумить). Авдотья Романовна такой человек, что сама ищет, какую бы ей муку принять. В это время привезли симпатичную сенную девушку Парашу. Она была глупа и подняла крик. Авдотья Романовна пришла и потребовала, чтобы я оставил Парашу в покое. Я прикинулся пораженным, смущенным и т. д. - сыграл роль недурно. Авдотья Романовна взялась меня «просвещать». Я прикинулся жертвой судьбы и прибегнул к испытанному средству - лести. А ведь даже весталку можно соблазнить лестью. Но я был слишком нетерпелив и все испортил. Мы разошлись. Я сделал еще одну глупость: стал издеваться над ее «пропагандой», появилась на сцене Параша, и не одна она. Начался содом. Но ночами мне снилась она. Тогда я решил предложить ей все свои деньги (приблизительно 30 тысяч) и бежать со мной в Петербург. Марфа Петровна состряпала свадьбу Авдотьи Романовны с Лужиным, а это было, по существу, то же самое». Раскольников: «Моя сестра терпеть вас не может». Свидригайлов: «Вы уверены? Но это неважно. Я женюсь. На шестнадцатилетней». Рассказывает, какой это «еще не развернувшийся бутончик» - «робость, слезинки стыдливости». Родители благословили. Свидригайлов: «Подарил ей драгоценностей и, оставшись наедине, грубо усадил к себе на колени. А она: “Буду вам верной женой, сделаю счастливым, только хочу иметь от вас уважение. И подарков не надо”. Женюсь непременно, хоть ей всего 16, а мне 50». Рассказывает, как соблазнил еще одну случайно встретившуюся ему девочку, приняв на себя заботы опекунства. В конце говорит Раскольникову: «Не возмущайтесь, вы и, сами порядочный циник». Собирается уходить, но Раскольников не отпускает его от себя, считая, что у него дурные намерения относительно Дуни. Свидригайлов говорит, что Сони нет дома (Раскольников собирался зайти к ней извиниться, что не был на похоронах Катерины Ивановны) - она пошла к содержательнице сиротского приюта, куда Свидригайлов поместил младших детей и рассказал содержательнице всю историю. Та назначила Соне встречу. Потом Свидригайлов намекает Раскольникову ка подслушанный разговор с Соней. Раскольников говорит, что подло подслушивать у дверей. Свидригайлов: «Если вы действительно считаете, что у дверей нельзя подслушивать, а старушонок можно лущить чем попало, уезжайте скорее в Америку. На дорогу я денег вам дам. Бросьте нравственные вопросы, иначе и соваться не надо было». Идут к Свидригайлову. Свидригайлов берет деньги, предлагает Раскольникову ехать кутить на острова. Раскольников уходит. Свидригайлов, отъехав несколько метров, слезает с извозчика и тоже не едет. Раскольников сталкивается на мосту с Дуней, но не замечает ее. Поблизости - Свидригайлов. Он делает знаки Дуне, и она подходит к нему. Свидригайлов просит ее пойти с ним, обещая показать «кое-какие документы» и говоря, что «кое-какая тайна ее брата находится у него в руках». Приходят к Соне. Ее по-прежнему нет дома. Заходят к Свидригайлову. Свидригайлов говорит, что подслушал разговор между Раскольниковым и Соней, открывает Дуне, что ее брат - убийца, рассказывает о его «теории». Дуня отвечает, что сама хочет увидеть Соню и выяснить, так ли все. Свидригайлов говорит, что всего одно ее слово - и он спасет Раскольникова, признается, что любит Дуню. Она отвергает его. Тогда Свидригайлов заявляет, что дверь заперта, соседей нет, и он может сделать с ней все, что захочет. Дуня достает из кармана револьвер (взятый у Свидригайлова же еще в деревне, когда он давал ей уроки стрельбы). Свидригайлов идет к ней, Дуня стреляет, пуля оцарапала Свидригайлову голову. Дуня стреляет еще раз - осечка. Свидригайлов: «Зарядите - я подожду». Дуня отбрасывает револьвер. Свидригайлов обнимает ее, Дуня снова просит ее отпустить. Свидригайлов: «Не любишь?» Дуня: «Нет, и не полюблю никогда». Свидригайлов ее отпускает, потом берет револьвер и уходит. Весь вечер кутит, потом идет к Соне, говорит: «Я, быть может, в Америку уеду, потому делаю последние распоряжения». Говорит, что детей пристроил, потом дает Соне 3 тыс. в подарок со словами: «У Раскольникова две дороги - или пуля в лоб, или по Владимирке (т. е. на каторгу). А если на каторгу вы за ним пойдете, то и деньги пригодятся». Уходит. В дождь, в полночь приходит на квартиру своей невесты, говорит, что должен уехать по важному делу, оставляет ей 15 тысяч рублей. Затем бродит по улицам, заходит в дрянную гостиницу, спрашивает номер. Сидит в темноте, вспоминает свою жизнь: девочку-утопленницу, Марфу Петровну, Дуню. Ему снится, что где-то в коридоре он подбирает брошенную пятилетнюю девочку. Приводит к себе, укладывает спать, потом хочет уйти, но вспоминает о девочке и возвращается к ней. Но девочка не спит, она нахально подмигивает ему, недвусмысленно тянет к нему руки, развратно ухмыляется. Свидригайлов в ужасе просыпается. Пишет на листке из записной книжки несколько строк, потом идет на улицу, доходит до пожарной каланчи и в присутствии пожарника (чтобы был свидетель) стреляется.
Раскольников приходит к матери. Она с гордостью читает его статью в журнале, которую принес Разумихин, хотя и не понимая ее содержания. Раскольников прощается с матерью, говорит, что ему надо уехать. «Любите меня всегда, что бы со мной ни случилось». Идет к себе, там встречает Дуню. Раскольников говорит, что «идет предавать себя». Дуня: «Разве ты, идучи на страдание, не смываешь уже вполовину свое преступление?» Раскольников: «Преступление?! Я убил старушонку-процентщицу, гадкую зловредную вошь. А то, что иду признаваться - это мое малодушие, просто от низости и бездарности решаюсь. Да еще из выгоды - явка с повинной». Дуня: «Но ведь ты кровь пролил». Раскольников: «Ее все проливают, за нее потом в Капитолии венчают. Я бы потом сделал сотни, тысячи добрых дел вместо одной глупости, я просто хотел этой глупостью поставить себя в независимое положение, первый шаг сделать. Но я первого шага не выдержал, т. к. подлец. Если бы мне удалось, то меня бы увенчали, а теперь - в капкан». Раскольников прощается с Дуней, идет по улице, думает: «Неужели в эти будущие 15-20 лет так уж смирится душа моя, что я с благоговением буду хныкать перед людьми, называя себя ко всякому слову разбойником? Да, именно, именно! Для этого-то они и ссылают меня теперь, этого-то им и надобно... Всякий из них подлец и разбойник уже по натуре своей. А попробуй обойти меня ссылкой, и они все взбесятся от благородного негодования». Раскольников понимает, что все так и будет - 20 лет беспрерывного гнета добьют его окончательно, ведь и вода камень точит, но Раскольников все равно идет сдаваться.
Вечером Раскольников приходит к Соне, застает там Дуню. Раскольников просит у Сони крест, та отдает ему крест Лизаветы. Раскольников идет в контору. Там узнает, что Свидригайлов застрелился. Раскольникову дурно, он выходит на улицу. Там стоит Соня. Он идет обратно в контору и признается в убийстве.
Эпилог
Сибирь. Острог. В результате всех смягчающих обстоятельств - болезнь, не воспользовался деньгами, явка с повинной, когда Миколай уже сознался в убийстве (Порфирий Петрович сдержал слово и о своих подозрениях и визите к Раскольникову умолчал), выяснилось, что когда-то Раскольников спас двоих детей во время пожара, на свои деньги почти год содержал больного сокурсника и проч. - Раскольникову дали всего восемь лет. Дуня вышла за Разумихина. В числе приглашенных были Зосимов и Порфирий Петрович. Пульхерия Александровна заболела (психическое расстройство) - поэтому ей не говорили, что с ее сыном.
Соня поехала в Сибирь. По праздникам видится у ворот острога с Раскольниковым. Раскольников болен. Но ни страдания, ни тяжелая работа не сломили его. Он не раскаялся в своем преступлении. В одном он считал себя виновным - что не выдержал преступления и сделал явку с повинной. Страдал, что не убил себя, как Свидригайлов. В остроге все преступники очень дорожили своей жизнью, что удивляло Раскольникова. Его никто не любил, даже ненавидели. Одни говорили: «Ты барин! Тебе ли было с топором ходить!» Другие: «Ты безбожник! Ты в бога не веруешь! Убить тебя надо!», хотя сами были во много раз преступнее его. Зато все полюбили Соню, хотя она у них не заискивала. В бреду Раскольникову чудилось, что весь мир должен погибнуть из-за болезни, будто есть микроб, точнее духи, одаренные умом и волей, которые вселяются в людей, делая их бесноватыми и сумасшедшими, хотя зараженные считают себя умными и неколебимыми в истине. Люди заражаются, начинают убивать друг друга, пожирать, как пауки в банке. Выздоровев, Раскольников узнает, что Соня заболела. Он в тревоге, но болезнь оказалась неопасной. Соня присылает записку, что придет его повидать на работе. Раскольников утром идет на «работы», видит дальний берег реки (перекличка с «берегом», о котором говорил Порфирий Петрович), где «была свобода, где жили люди, не похожие на здешних, там как бы самое время остановилось, точно не прошли времена Авраама и стад его». Приходит Соня. Раскольников бросается к ее ногам, плачет, понимает, что бесконечно любит ее. Раскольникову оставалось еще семь лет каторги, но он чувствовал, что воскрес (перекличка с воскрешением Лазаря). Непонятно почему, но отношение каторжников изменилось (сравни слова Порфирия Петровича: «Стань солнцем - и все тебя увидят»), Раскольников понимает, что «наступила жизнь», под подушкой у него лежит Евангелие.
На следующий день после объяснения с Дуней Петр Петрович вынужден был признаться себе, что ему будет довольно трудно наладить с ней отношения. Плохое настроение Лужина ухудшилось еще больше от того, что немец, сдавший ему квартиру, сейчас требовал от него заплатить всю неустойку за нарушение контракта, несмотря на но то, что Петр Петрович возвращал ему заново отделанную квартиру. К тому же и в мебельном магазине не хотели вернуть ни рубля задатка за уже купленную, но еще не перевезенную в квартиру мебель. Он вспомнил о Дуне и начал корить себя за то, что не делал ей никаких подарков. «Если бы я выдал им тысячи полторы на приданое, да на коробочки разные, то они теперь бы так легко не отказали», — рассуждал Лужин. Мысленно он назвал себя дураком и вышел из комнаты.
Он увидел приготовления к поминкам и узнал, что поминки будут торжественными, приглашены все жильцы. Он, Петр Петрович, ожидается с большим нетерпением как самый важный гость. Катерина Ивановна была на кладбище, и на кухне распоряжалась сама госпожа Липпевехзель, разодетая хоть и в траур, но во все новое. Все это навело Лужина на одну мысль.
Он вернулся в свою комнату. Здесь был Андрей Семенович Лебезятников. У этого человека поселился временно Петр Петрович в ожидании окончания ремонта в нанятой квартире. Но Петр Петрович поселился у Лебезятникова не только из мелочной экономии. В провинции Лебезятников имел репутацию молодого прогрессивного человека, пользующегося влиянием в иных баснословных кружках. В провинции слышали, что в столице существуют какие-то прогрессисты, нигилисты, обличители и проч., но что это такое, никто точно не знал. Петр Петрович столкнулся с двумя случаями обличения влиятельных лиц, которые закончились один скандально, а другой весьма хлопотливо. Вот почему, приехав в Петербург, Петр Петрович решил на всякий случай разузнать в силе эти люди или нет? Есть ли чего бояться ему или нет? Более того, он хотел бы к ним подделаться и тут же их поднадуть.
Лужин сразу понял, что Андрей Семенович довольно пошленький и простоватый молодой человек. Тот был худосочный, малого роста. У него было достаточно мягкое сердце, но речь довольно самоуверенная, что в сравнении с фигурой, почти всегда выглядело смешно. Это был один из бесчисленного и разнообразного легиона пошляков, всему недоучившихся самодуров, которые сразу пристают к самой модной идее, чтобы опошлить то, чему они самым искренним способом служат. Как ни был простоват Лебезятников, но он уже начал понимать, что Лужин втайне презирает его. Петр Петрович инстинктивно начал понимать, что Лебезятников не только глуповатый и пошлый человек, но, возможно, и лгунишка. Видимо, он не имеет связей и влияния даже в своем кружке, да и своего пропагандистского дела не знает по-настоящему.
Возвратившись в комнату, Лужин заговорил с Лебезятниковым о готовящихся поминках. Ему не понравилось, что вдова решила потратить почти все деньги, данные Раскольниковым, на поминки, пригласив на них всех жильцов. Сказал, что сам он не собирается туда идти. Лебезятников тоже не хотел идти. «Конечно, собственноручно отколотили», — захихикал Лужин. «Кто отколотил? Кого?» — покраснел Лебезятников. «Да вы Катерину Ивановну, с месяц назад. Вот они, ваши убеждения! Да и женский вопрос подгулял!» — Петр Петрович словно успокоился и продолжал считать деньги, разложенные на столе. Лебезятников начал горячо говорить, что все это клевета. Он только защищался от Катерины Ивановны, когда она на него бросилась с когтями, даже бакенбард выщипала. Лебезятников объяснил, что не пойдет на поминки по идейным соображениям. «Я просто по принципу не пойду, чтобы не участвовать в глупом предрассудке поминок», — продолжил он.
Лужин заговорил о Соне: «Правда ли это, что про нее говорят?» Лебезятников сказал, что считает, что это нормальное состояние женщины, что в будущем так и будет. Он смотрит на действия Сони как на протест против общественного устройства и уважает ее за это. «А мне говорили, что вы ее и выжили из номеров», — ядовито вставил Лужин. Лебезятников долго и витиевато рассказывал, что занимался только развитием Софьи Семеновны, приглашал в коммуну. В этом разговоре Лебезятников стремился высокопарно растолковать Лужину принципы их коммуны, а Лужин довольно ядовито высмеивал эти наивные и смешные теории.
Наконец, Лужин попросил Лебезятникова позвать к ним в комнату Соню. Когда она пришла, Лужин встретил ее ласково и приветливо. Он пригласил ее за стол, на котором лежали аккуратно разложенные по стопочкам деньги. Соня робко села. Лужин попросил Лебезятникова остаться при их разговоре, чтобы потом не было сплетен. Петр Петрович произнес довольно высокопарную речь о бедственном положении Катерины Ивановны, заметил, что ей доверять деньги нельзя, и поэтому он решил отдал деньги Соне. При этом он протянул ей бумажку в 10 рублей, тщательно развернув ее. Соня взяла, вскочила и поскорей стала откланиваться.
Когда Соня ушла, Лебезятников подошел к Петру Петровичу и протянул ему руку: «Я все слышал и все видел. Вы хотели избежать благодарности. Хотя я не одобряю благотворительности вообще, но на этот ваш поступок я смотрел с удовольствием». Он опять пустился в свои рассуждения о свободном гражданском браке, которые Петр Петрович, как и раньше, слушал, посмеиваясь. Было видно, что он обдумывает что-то другое. Все это Андрей Семенович сообразил и вспомнил потом.
Далее в 5 части романа «Преступление и наказание» Достоевского говорится о том, что на поминках Катерина Ивановна была в раздраженном состоянии, потому что не пришли самые уважаемые жильцы. Она придиралась к бедным и жалким жильцам, пришедшим на поминки, вспоминала о своей жизни в отцовском доме. Особенно раздражала Катерину Ивановну хозяйка номеров, Амалия Ивановна. Она искала и нашла повод поругаться с ней. Во время этой сцены, когда женщины готовы были вцепиться друг другу в волосы, в комнату вошел Лужин. Он направился прямо к Соне и обвинил ее в краже сторублевого кредитного билета. Лужин важно сказал Соне самой отдать деньги. «Я ничего не знаю», ;— слабым голосом пробормотала бедная Соня. Она протянула десять рублей, которые ей дал Лужин, и сказала, что больше ничего не брала. Раскольников во время этой сцены стоял бледный, скрестив руки у стены. Катерина Ивановна закричала: «Пусть кто хочет обыскивает Соню!» Она сама вывернула один карман, Сони, в нем были только платок, потом другой. Из второго кармана вдруг выскочила бумажка и упала к ногам Лужина. Все вскрикнули. Это был сторублевый банковский билет
Плач бледной, чахоточной Катерины Ивановны, которая отрицала, что Соня могла украсть, произвел сильное впечатление. Все пожалели несчастную. Петр Петрович великодушно сказал, что прощает бедную девушку, которую нужда вынудила пойти на кражу. Взгляд Раскольникова, казалось, готов был испепелить Лужина. Вся семья утешала плачущую Соню. «Как это низко!» — раздался вдруг громкий голос в дверях. «Какая низость!» — повторил Лебезятников. Петр Петрович как будто вздрогнул. «Вы мошенник! Я все слышал…», — сказал он гневно, обращаясь к Лужину. «Да что я такое сделал?» — удивился тот. «Он сам, положил этот билет в карман Софье Семеновне. Я все видел. В дверях, прощаясь с нею…» Лужин побледнел, сказал, что Лебезятников все врет. «Нет. Хоть я далеко стоял. Но я видел, что когда вы стали давать Соне 10 рублей, тогда же вы со стола взяли сторублевый билет. Я это хорошо видел, потому что тогда рядом с вами стоял. Я подумал, что вы тихонько от меня хотите это благодеяние, поэтому я внимательно следил за вами и видел, как вы положили его в карман Софье Семеновне».
Все поверили Лебезятникову. Петр Петрович обвинил Лебезятникова во лжи из-за того, что он не разделяет его убеждений. Но этот выверт не принес пользы Лужину. В толпе раздался ропот. Лебезятников готов был принести присягу в правдивости своих слов. Объяснить подлый поступок Лужина взялся Раскольников. Тот все это сделал для того, чтобы окончательно поссорить Раскольникова с семьей, показав, что Соня, которая дорога Родиону, на самом деле — воровка. Раскольников говорил резко, спокойно, ясно, твердо. Видя, что он попался, Петр Петрович решил взять наглостью. Он спокойно заявил, что в суде во всем разберутся и не поверят двум отъявленным безбожникам. Говоря это, он уверенно пробирался сквозь толпу жильцов в свою комнату. Петр Петрович через полчаса уже выехал из квартиры.
С Соней случилась истерика. Она понимала, что обидеть и оскорбить ее может каждый совершенно безнаказанно. Но ей казалось, что можно осторожностью избежать беды. Теперь она увидела, что это не так. Не выдержав, Соня убежала домой. Амалия Ивановна стала гнать с квартиры Катерину Ивановну и ее детей. И без того убитая Катерина Ивановна накинула на голову тот самый драдедамовый платок, в котором она стояла перед Соней всю ночь на коленях, когда та первый раз пошла на панель, отправилась искать справедливость.
5 часть романа «Преступление и наказание» Достоевского продолжается тем, что Раскольников пошел к Соне. По пути он раздумывал, нужно ли сказать Соне про убийцу старухи, как он обещал. Подойдя к двери, он почувствовал необходимость этого. Чтоб больше не рассуждать и не мучиться, он резко открыл дверь в комнату. Соня бросилась к нему со словами благодарности за заступничество. Раскольников сел на стул и заговорил с Соней. Раскольников никак не мог решиться сказать Соне правду про убийство старухи. Говоря об убийце, он сказал, что с ним большой приятель. Он Лизавету убил нечаянно. Он хотел убить старуху, когда она была одна, но тут пришла Лизавета, и он убил ее.
Прошла ужасная минута. Оба смотрели друг на друга. «Так не можешь угадать?» — спросил он снова. «Нет», — чуть слышно прошептала Соня. Он смотрел на Соню и видел так хорошо запомнившееся ему лицо Лизаветы, когда он приближался к ней с топором, а она отходила к стене с детским испугом на лице. Почти то же самое случилось с Соней. С тем же испугом, бессильно посмотрела она на него и вдруг начала подниматься, все более отстраняясь от него, все неподвижнее становился ее взгляд. «Господи!» — Соня упала на кровать з слезах, потом быстро поднялась, схватила его за обе руки, пристально глядя в глаза. Она словно хотела увидеть, что все это неправда. Но все было так. «Соня, не мучь меня!» — попросил Раскольников. Не помня себя, она кинулась к нему и села рядом, потом бросилась перед ним на колени. «Что вы над собой сделали! Нет несчастнее никого теперь в целом свете!» — и вдруг заплакала навзрыд. Давно забытое чувство охватило Раскольникова, две слезы скатились из его глаз. «Соня, ты не оставишь меня?» — «Нет, никогда и нигде! За тобой пойду! Всюду пойду!» Соня думала о каторге. Раскольникова передернуло. «Я, Соня, еще в каторгу, может, не хочу идти!» — сказал он. Та посмотрела на него. В его тоне вдруг послышался убийца. «Как вы, вы такой, могли на это решиться?» — проговорила она.
Соня просила Родиона пойти покаяться перед людьми. Раскольников не понял ее, он не собирался на каторгу. «А жить-то как будешь? Ведь ты уже бросил мать и сестру. Этакую-то муку нести!» — повторяла Соня. «Я, может, еще не вошь, а человек... Я еще поборюсь». Раскольников объяснил Соне, что настоящих улик против него нет, он может только ненадолго попасть в острог. Он спросил, придет ли к нему туда Соня? «Да», — без колебания ответила девушка. Соня одела на Раскольникова свой кипарисный крест, а себе оставила тот, что подарила ей Лизавета.
В это мгновение в комнату вошел Лебезятников. Он без обиняков брякнул, что Катерина Ивановна сошла с ума. Все тут же вышли из комнаты. По дороге Лебезятников рассказал, что она ходила к генералу жаловаться на квартирную хозяйку, ее выгнали. Она вернулась домой и кричала, что все ее бросили, что пойдет на улицу просить милостыню и каждый день будет приходить под окно к генералу. Она бьет детей, учит Леню петь песню «Хуторок», шьет детям какие-то шапочки, как актерам.
Поравнявшись со своим домом Раскольников пошел в свою каморку. Никогда Раскольников не чувствовал себя таким одиноким. Он уже ругал себя за то, что пошел к Соне. Затем ему пришла странная мысль, что, может быть, в остроге-то лучше.
Его размышления прервала Дуня. Раскольников сразу увидел, что она пришла к нему с любовью. Разумихин рассказал ей о том, что брата подозревают в убийстве старухи. Дуня говорила, что понимает негодование Родиона, она просила только иногда приходить к матери, чтобы не замучить ее совсем. «Я пришла только сказать тебе, что если я тебе в чем-то понадоблюсь или тебе понадобится моя жизнь... то кликни меня, я приду. Прощай!» — с этими словами Дуня повернулась уходить. Раскольников остановил ее. Он сказал Дуне, что Разумихин деловой, трудолюбивый человек, честный, способный сильно любить. Раскольников прощался с сестрой, не сказав ей правды. Он понял, что Дуне такой правды не выдержать. Родион вспомнил о Соне, взял фуражку и вышел. Он бродил по городу без цели. Вдруг его кто-то окликнул. К нему бросился Лебезятников. Тот искал Родиона, потому что дела Катерины Ивановны были совсем плохи.
Раскольников попробовал было убедить ее вернуться домой, но все напрасно. Показался городовой. Он потребовал прекратить безобразие. Коля и Леня, напуганные выходками помешанной матери и собравшейся толпой, при виде городового бросились бежать. Мать кинулась их догонять и упала. Все столпились вокруг Катерины Ивановны. Разглядев хорошенько, увидели, что она не разбилась о камни, а кровь хлынула горлом. Соня попросила отнести Катерину Ивановну к себе. В комнате кроме Сони, оказались Раскольников, Лебезятников, чиновник, подавший на улице Катерине Ивановне три рубля, городовой и дети. Пришли Капернаумовы. Между этой публикой появился вдруг Свидригайлов. Катерина Ивановна пришла в себя.
Услыхав про священника, Катерина Ивановна отказалась от него, сказав, что Бог и без того должен ее простить, а лишнего целкового нет. Катерина Ивановна опять начала бредить, вспоминая свою благополучную жизнь до замужества. Это продолжалось недолго. Она скончалась. Соня упала на труп, прильнув к иссохшей груди покойницы. Полечка плакала навзрыд. Свидригайлов подошел к Раскольникову. Он сказал, что возьмет похороны на себя, детей определит в сиротские заведения. Софью Семеновну тоже из омута вытащит. Также Свидригайлов дал понять Раскольникову, что слышал его разговор с Соней, ведь он живет через стенку.
«Я под судом и всё расскажу. Я всё запишу. Я для себя пишу, но пусть прочтут и другие, и все судьи мои, если хотят. Это исповедь. Ничего не утаю.
Как это все началось – нечего говорить. Начну прямо с того, как всё это исполнилось. Дней за пять до этого дня я ходил как сумасшедший. Никогда не скажу, что я был тогда и в самом деле сумасшедший, и не хочу себя этой ложью оправдывать. Не хочу, не хочу! Я был в полном уме. Я говорю только, что ходил как сумасшедший, и это правда было. Я всё по городу тогда ходил, так, слонялся, и до того доходило, что даже в забытье в какое-то впадал. Это, впрочем, могло быть отчасти и от голоду, потому что, уже целый месяц, право, не знаю, что ел. Хозяйка, видя, что я из университета вышел, не стала мне отпускать обеда. Так разве Настасья что от себя принесет. Впрочем, что ж я! совсем не в том главная причина была! голод был тут третьестепенная вещь и я очень хорошо помню, что даже и внимание не обращал во всё то самое последнее время: хочу ли я есть или нет? Даже не чувствовал. Всё, всё поглощалось моим проектом, чтоб привести его в исполнение. Я уже и не обдумывал его тогда, в последнее время, когда слонялся, потому что уже прежде всё было обдумано и всё порешил. А меня только тянуло, даже как-то механически тянуло поскорее всё исполнить и порешить, чтоб уже как-нибудь да развязаться с этим. А отказаться я не мог… не мог… Я болен делался, и если б это продлилось еще долее, то с ума бы сошел, или всё на себя доказал, или… уж и не знаю, что было бы.
По правде, во всю эту последнюю неделю хорошо и отчетливо помню только то, как встретился с Мармеладовым. Впрочем, это, может быть, потому, что я давно уже ни с кем тогда не встречался и всё оставался один, так что встреча с каким бы то ни было человеком как бы заклеймилась во мне. Об Мармеладове же потому особенно запишу, что во всем моем деле эта встреча играет большую дальнейшую роль. Это ровно за четыре дня до девятого числа было. Остальная же вся неделя у меня, как в тумане, мелькает. Иное припоминаю теперь с необыкновенною ясностию, а другое как будто во сне только видел. Про весь тот день, как Мармеладова встретил, совершенно ничего не помню. Совершенно. В девять часов вечера – так я думаю – очутился я в C-м переулке подле распивочной. В распивочные доселе я никогда не входил, и теперь вошел не по тому одному, что меня действительно мучила ужасная жажда и хотелось пива выпить, а потому, что вдруг, неизвестно почему, захотелось хоть с какими-нибудь людьми столкнуться. Иначе я бы упал на улице, голова хотела треснуть, и хоть для меня тогда было неосторожно входить, но я уж не рассуждал и вошел.
Даже не помню и того отчетливо, как я подошел к застойке, снял свое серебряное крошечное колечко, из какого-то монастыря, от матери еще досталось, и как-то уговорился, что мне дадут за него бутылку пива. Затем я сел, и, как выпил первый стакан, мысли мои тотчас, в одну минуту какую-нибудь, прояснели, и затем весь этот вечер, с этого первого стакана, я помню так, как будто он в памяти у меня отчеканился.
В распивочной было мало народу. Когда я вошел, вышла целая толпа, человек пять, с одной девкой и с гармонией. Остались потом один пьяный, который спал или дремал на лавке, товарищ его, толстый, в сибирке, который сидел хмельной, но немного, тоже за пивом, и Мармеладов, которого я до тех пор никогда не встречал. Сидел он за полштофом и изредка отпивал из него, наливая в стаканчик и посматривая кругом, в каком-то как мне показалось, даже волнении. Потому во всё это время вошло человека два, три, не помню хорошо каких. Всё голь. А я сам был совершенно в лохмотьях.
Хозяин распивочной был в другой комнате, но часто входил в нашу, спускаясь к нам вниз по ступенькам. Он был в сапогах с красными отворотами, в сибирке и в страшно засаленном атласном черном жилете. За застойкой стоял, кроме того, мальчик и был еще другой мальчик, который подавал, если что спрашивали. Стояли крошеные огурцы, ржаные сухари и какая-то соленая рыба. Атмосфера была душная, да и погода тогда стояла знойная, жаркая, июльская, так что в распивочной было даже нестерпимо сидеть, и всё до того было пропитано винным запахом, что, мне кажется, с одного этого воздуха можно в десять минут было пьяным напиться.
Я невольно обратил внимание на Мармеладова, может быть именно потому, что и сам он обращал на меня внимание, и кажется, с самого начала ему хотелось ужасно заговорить, – и именно со мной, на тех же, которые были кроме нас в распивочной, он, видимо, с пренебрежением смотрел и даже чуть не свысока, считая себя принадлежащим к более высшему обществу. Это был человек лет сорока пяти, среднего роста, с проседью и с большой лысиной, с отекшим от постоянного пьянства желтым, даже зеленоватым лицом и с припухшими веками, из-за которых светились крошечные, как щелочки, но одушевленные глаза. Взгляд его даже мое обратил внимание; а я ничем тогда, кроме одного, не мог особенно интересоваться. Но во взгляде этом светилась какая-то восторженность. Пожалуй, и смысл, и ум, и в то же время тотчас же как бы безумие, – не умею иначе выразиться. Одет он был в какой-то оборванный фрак с совершенно осыпавшимися пуговицами, в нанковый жилет, из-под которого виднелась манишка, вся скомканная, запачканная и залитая (VII, 96–99). И наконец, после возвращения в Петербург в ноябре – декабре 1865 г. форма повествования от лица Раскольникова была оставлена и заменена дававшей более широкие возможности для изображения картины окружающего мира и психологического анализа души героя формой повествования от автора. Достоевский так писал о мотивах, побудивших его предпочесть такую форму: «Перерыть все вопросы в этом романе. Рассказ от себя, а не от него. Если же исповедь, то уж слишком до последней крайности, надо все уяснять. Чтоб каждое мгновение рассказа всё было ясно <…> Исповедью в иных пунктах будет не целомудренно и трудно себе представить, для чего написано. Но от автора. Нужно слишком много наивности и откровенности. Предположить нужно автора существом всеведущим и не погрешающим, выставляющим всем на вид одного из членов нового поколения» (VII, 146, 148–149).